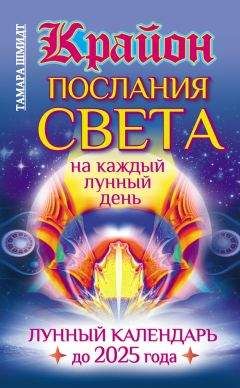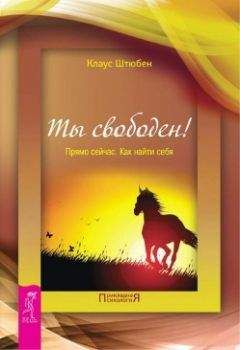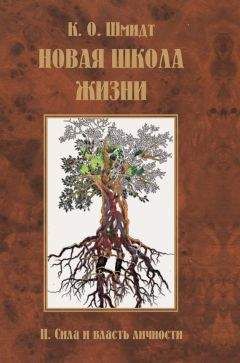Робер Андре - Дитя-зеркало
Я хотел бы спародировать здесь предупреждение, адресованное Жан-Жаком Руссо читательницам «Новой Элоизы»: ребенок, который осмелится прочитать одиу-единствеппую страницу этой книги, навеки погиб! Не знаю, может быть, я погиб еще до того, как раскрыл эту книгу, по, раскрыв ее, я но мог уже оторваться, читал ее с жадностью, как завороженный, охваченный диким восторгом и пылая нетерпением поскорей применить ее наставления на практике. Родители, говорю вам, сожгите эту сочиненную дьяволом книгу! Она способствовала, как вы увидите, моей погибели.
О различии между «сценами» и «ссорами»…
К сожалению, я опять возвращаюсь к распрям, которые по мере моего выздоровления начинают набирать прежнюю силу. Их природа представляется мне уже менее таинственной, хотя все еще достаточно неясной, но не могу сказать, чтобы мне очень хотелось ее прояснить. Я бы предпочел даже, чтобы вообще пичего не нужно было прояснять, по чувствую, что мне на роду написано постепенно познавать вещи, которые лучше бы было, если возможно, скрывать от детей. Пыла ли такая возможность? Этого я не знаю.
Как бы там ни было, отсутствие всякой стыдливости и сдержанности в частной жизни — черта, свойственная и матери и отцу, — не способствовало столь желанному и желательному неведению. Держись они чуть более скрытно, я был бы избавлен от многих мучительных сцен… Мне, без сомнения, скажут, что я преувеличиваю свои страдания, я и сам уже упрекал себя в этом, но ведь известно, что иногда не существует логической связи между действительным значением некоторых жизненных испытаний и тем отголоском, который получают они в нашем сознании. Ведь и на самом деле никак нельзя было считать мою Жизнь некоей голгофой, я прекрасно это понимаю, но почему же тогда я чувствовал себя все эти годы почти постоянно несчастным? Почему мне никогда не удавалось об этом забыть? Я не обвиняю, я лишь констатирую факт, и вполне вероятно, что никто тут но мог ничего поделать.
По той же причине я не имею намерений никого судить. Слишком много обстоятельств мне неизвестно, слишком часто они озарены для меня недолгим, надрывающим душу мерцанием, и я знаю, что буду потом себя упрекать и терзаться сомнениями. Мне также скажут, что я непочтителен к памяти мертвых, что здесь уместно лишь благоговейное молчание. Но эта мораль мне больше не подходит. Тогда надо согласиться с тем, что смерть уничтожает все, чем люди были при жизни. Да, конечно, нельзя отрицать, смерть выявляет нечто такое, что пе виделось, не замечалось из-за непрерывного смещения перспективы, в которой мы видим людей на протяжении их жизни; меняются они, меняемся и мы сами. Смерть производит процесс осветления, и лучшее берет верх над худшим; так вода, переставая течь, являет нам лишь неподвижную прозрачность. Но под этим спокойствием, под этой пресловутой ясностью тем не менее скрывается неровное дно человеческой биографии. Покойники уже не могут ничего нам об этом сказать из своих могил, но, если история их жизни переплетается с пашей, ран во можно не воскрешать ее? Мне волей-неволей приходится сиять со смерти табу, поскольку я лишен права на уловки, которые применяются, когда пишешь выдуманные истории про выдуманных героев.
Итак, сцены в доме не прекратились, и, если попытаться сравнить их с прежними, можно исходить из различия, которое существует между сценами и ссорами, и мне кажется, что я уже способен это сделать. Ссоры идут от несходства характеров, от живости реакций, от обоюдного упрямства, различия вкусов, неуступчивости с обоих сторон — словом, от тысячи черточек, которые делают совместную жизнь либо спокойной, либо насыщенной бурями, и совсем необязательно при этом, чтобы бури ставили брак под угрозу; известно, что некоторым супружеским парам бури так же необходимы, как ласки. Если бы я просто тосковал по ровным отношениям в семье, по душевному согласию вроде того, какое царило между супругами Перрон или супругами Мадлен, в чьих семьях мама упорно искала трещину, но так и не могла ее найти, что способствовало охлаждению наших с ними отношений, — я бы за неимением лучшего смирился с ссорами, чью относительную безобидность, несмотря на театральные эффекты, какими они сопровождаются, я уже понимал. Тут были вопли, грохот, слова и слова, но все это было не очень серьезно, требовалось лишь привыкнуть к тому, что у взрослых между словами и их смыслом существует разрыв. Но сцены связаны уже не только с несходством характеров. Они происходят все чаще и чаще. Затяжные, торжественные, они тоже представляют собой театральное действо, только театр здесь уже совсем иного рода, он ставит под угрозу самые основы моего бытия, и в поведении родителей передо мной открываются такие стороны, о существовании которых я раньше не подозревал; по-прежнему бьются тарелки, но мне еще не доводилось слышать такие слова, как «неверность», «пора с этим кончать», «развод» и так далее. Поначалу слова эти повергали меня в полное недоумение, я плохо их понимал и лишь смутно чувствовал, что они таят в себе угрозу куда более серьезную, чем битье посуды.
Как ни трудно восстановить ход рассуждений ребенка, мне кажется, что, несмотря на мою привязанность к матери, возродившуюся с новой силой во время болезни, и на стойкое недоверие к отцу, я продолжал считать, что семья наша по-прежнему крепка и едина. Она была еще чем-то целым, и мое хрупкое существование, точно цемент, скрепляло ее разнородные части. Раздираемое распрями, племя оставалось племенем, со своими первобытными, сакраментальными обязанностями. Чтобы понять, что такое неверность, нужно было имоть представление о любви, существующей вне категорий нежности и дружбы, а у меня, естественно, такого представления не было, и я оказался перед лицом многих неразрешимых загадок, в которых брезжила лишь пугающая меня возможность распада семьи.
Мне предстояло долгие годы жить под этим дамокловым мечом, и вряд ли можно найти более точную формулу для объяснения ситуации, когда в мое сознание надолго внедрится ощущение угрозы, сольется с прежними моими опасениями и тревогами, будет неотступно преследовать меня вплоть до начала отрочества.
Мне остается лишь выбирать между вариантами этой угрозы. Расскажу по порядку о моих грустных открытиях той поры.
Пожалуй, вначале, как мне кажется— но здесь память может меня и подвести, — вначале была сцена, которая показалась мне очень странной, поскольку была мне совершенно непонятной, и в которой принял участие весь наш семейный клан. Я предполагаю, что отец придерживался довольно устаревших взглядов и заботился прежде всего о том, чтобы выглядеть пристойно в глазах общественного мнения; он опасался, как бы семейные неурядицы не наделали шуму и по повредили его карьере… Когда я думаю об этом теперь, все это представляется мне похожим на семейные традиции латинян, где неверная, а значит, виновная жена покрывает бесчестьем весь свой род, и ее проступок требует наказания и отмщения. К счастью, мы были не на Корсике и не в Сицилии, а в чем могла провиниться моя мать, если она и в самом деле провинилась, я не имел ни малейшего понятия. Впрочем, эта сцепа, надо полагать, имела место еще до моего последнего воспаления легких. Она происходила у бабушек, когда физические и умственные способности крестного были еще в порядке. После паралича, который его вскоре разобьет, он будет при каждом противоречии и помехе разражаться рыданиями. А сейчас он еще здоров и сурово отчитывает сестру на основании жалоб, с которыми отец, как я полагаю, обратился к их семье, — неистребимая привычка выносить сор из избы, которая всегда страшно меня удручает.
Так я впервые увидел, как мою мать обвиняют прилюдно, и увидел, хотя в это трудно поверить, как она, всегда такая воинственная и колючая, на этот раз дрогнула, охваченная стыдом перед единодушием своих обвинителей, перед этим единым фронтом добродетели, осудившим ее! Вы ведь знаете моих бабушек и их непримиримость в воп-росах морали, и я думаю, что мой дядя тоже им в этом не уступал. В семье латинян брат отвечает за поведение сестры и ревниво следит за ней до замужества. Но в чем же она провинилась, какой совершила проступок? И о чем шла в конце концов речь? Повторяю, это мне неизвестно. Все эти люди словно изъясняются передо мной на каком-то иностранном языке. Я лишь вижу, что мама уже не защищается, она горько плачет, она страдает, она одинока, она отвержена, а люди вокруг суетятся, причитают, кричат, побивают ее камнями обидных слов. И мое поведение было тогда не менее странным, чем вся эта сцена.
Мне и сейчас непонятно, почему я так себя вел…
Поначалу ошарашенный и оглушенный всей этой суматохой, которая была столь непривычной для квартиры на улице Клод-Бернар, ибо бабушки уже немного постарели и праздная жизнь в новом жилище заметно ослабила их энергию, я вскоре почувствовал, что меня захватывает общее возбуждение, но вместо того, чтобы пожалеть маму, как должно было мне подсказать мое сердце, вместо того, чтобы, согласно евангельским законам, принять сторону обиженного, униженного, слабого, я поступил по-другому. Выждав некоторое время и тщетно пытаясь постичь смысл происходящего, я подло примкнул к стану поборников нравственности. Быть может, меня заразила сама атмосфера этого сборища, как бывает порою в толпе, которая вдруг подчиняет человека своей воле и заставляет его слепо кидаться вместе со всеми на жертву, чтобы ее растоптать… Но это всего лишь предположение. Во всяком случае, я вдруг тоже начал кричать и стал медленно подходить к маме, а она сидела, подперев рукой голову, и плакала. Когда мама плачет, она выглядит особенно трогательно, ее милое круглое лицо морщится, слезы текут ручьями, прямо потоки слез, а тело застывает в неподвижности, и на нее больно смотреть. Я принялся тыкать ей пальцем в плечо и глупо кричать: «Да, это все ты, ты, ты!», и в приступе гнева я даже ее толкнул, как делают дети, собираясь подраться. Ее полные слез глаза посмотрели на меня с удивлением и невыразимой печалью, и это удержало меня от дальнейших действий, я сам испугался своего поступка и, боясь, как и она, расплакаться, начал отвратительно кривляться, а мама смотрела на меня и шептала: «Что ты, мой маленький…»— после чего я убежал в глубину квартиры, и никто не подумал меня искать…