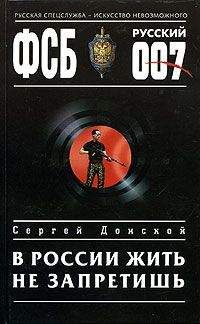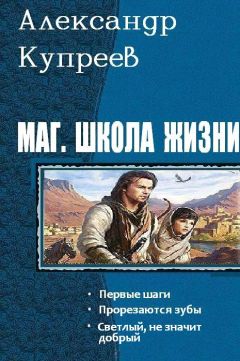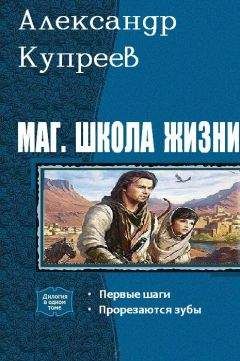Виктория Райхер - Йошкин дом
Собирает целый контейнер (таможня, проверки, понятно), и уезжает. В Америке её встречают опять представители американской еврейской организации, готовые приютить и обогреть, и находят ей быстро какой—то хороший дом не то что бы для престарелых, а вот для как раз такого золотого возраста, это же американцы, там всё корректно. В доме этом о ней заботятся, ею дорожат, она у них там живая легенда — русская (еврейка, неважно, всё равно русская), грузинская, из войны, такая нежная вся, ни одного грубого слова, вообще ни одного слова по—английски, откуда, но как—то разбираются, находят переводчиков, приставляют к ней лично, лишь бы ей было хорошо. Ей и хорошо.
Ей хорошо еще и потому, что, как очень быстро выяснилось, хрупкая Дорочка умудрилась вывезти из Сухуми полный контейнер драгоценнейшего Лешикова антиквариата. Причем такого, который к вывозу вообще запрещен, строжайше, навсегда, прошлый век, позапрошлый век, картины, серебро, статуэтки какие—то чуть ли не музейной редкости, сервизы, зеркала, ну разве что не мебель. Причем не две картинки и одну тарелку — контейнер! Контейнер того, от чего при одном упоминании вся бывшая советская таможня умерла бы от разрыва сердца. Американские эксперты видят и глазам не верят, они вообще не знали, что такое может быть, у них это не вписывается в картину мира! Причем постепенно становится понятно, что антиквариат Лёшиков Дорочка вывезла не абы какой остался, а самый дорогой, самый стоящий. Оказалось, что и продавала она на пропитание своё самое мелкое, самое неценное, самое бросовое, можно сказать, а вот эти вещи, эти сервизы—фарфоры, пастухи—пастушки, куклы—картины, семнадцатый век, восемнадцатый век — целы. Как разобралась? Откуда знала? Каким нюхом поняла? Загадка. Не говоря уже о том, каким образом немощная одинокая старушка умудрилась вывезти контейнер этого всего из страны, из которой вилку серебряную увезти — проблема, вот вам еще одна загадка, и никто её вам не разрешит, разве что Дорочка, но она ведь не скажет, она вообще не особо понимает, о чем с ней говорят.
Американские эксперты покачивали головами и терли глаза. Антиквариат свой Дорочка и тут продавать отказалась, разместила в своей новой казёной квартирке, с радио, естественно, а где вы видели в Америке квартиру без радио, и с большим окном, полным солнца по утрам. В том штате, куда её поселили, много света и много солнца, там дует солнечный ветер и шершавые теплые на ощупь деревья мягко шумят у Дорочкиного окна, красиво заставленного старинным фарфором. Она по—прежнему встаёт поздно, очень поздно, встаёт и первым делом, конечно, завтракает (завтрак ей приносят прямо в комнату, потому что она считается тут совсем пожилой), а потом идёт вниз и садится на лавочку перед домом, здесь перед каждым домом есть лавочки, чтобы постояльцам было удобно, ну вот Дорочке и удобно, она садится на лавочку, гладит сухой ладонью теплую лавочку (ей нравится прикосновение теплого дерева к коже, ладоням приятно), и щурится сквозь всё еще длинные ресницы на солнечный свет.
Хорошо Дорочке, говорят прочие постояльцы, она ни с кем не дружит, ни с кем не общается, поэтому если кто—то в доме вдруг умрёт — а тут это случается, все—таки возраст — ей ни по кому не придется сильно горевать. И ничего на свете Дорочку не отвлекает и не отвлечёт от её поздних подъёмов, коротких прогулок, теплых ладоней и бесконечного терпеливого созерцания солнца.
ДОБЫЧА
Смутное что—то. Какие—то люди, какие—то лица, почти маски. Не разглядеть.
— Пойдем, — сказала Люда, — пойдем, отберешь там себе какие—нибудь книжки.
Книжки? Там есть книжки?
По дороге — какие—то подробности, ненужные, в сущности, вот была старуха, где—то и до сих пор есть, но перелом шейки бедра, инвалидное кресло, дом престарелых, квартиру надо сдать государству, она ведь государственная, квартира, понимаешь? А куда это всё, ну сама посмотри, мебель, подушки, одеяла, вот два кресла есть, чуть ли не тридцатых еще годов, тебе не нужно кресло? Ну не тридцатых, ну пятидесятых, ну сороковых, какая, в сущности, разница? Кресла вытерлись до ниток, до блеска, до проблескивающей подставки, посуда стоит на полочках в кухне, блестит от лет. Комод полированный. Буфет, тоже. Книжки — ах да, книжки. Смотри.
Смотрю. Смотрю, но не вижу. Книжки. Кровать. Стол. Тусклые полы, тусклые стены. Места мало, между кроватью и столом — боком. Трюмо — ну конечно же, трюмо. Портрет. Чернобровая, высоколобая, с надменными губами. Не старая — пожилая. Она? Она. Ада. Ада?
… и в темноте, в суете, доживать — не слово ли? Доживать — мне, всю жизнь не жившей — выживавшей, урывавшей, нелегально, вопреки всему, как хлеб — куски от этой жизни? Зубами эти куски выгрызавшей, потому что даром — никто, ничего, никогда, мне — ничего и никогда — не давал?
— Характер у нее был ужасный, с ней никто не мог ужиться.
— А с кем же она жила?
— С сестрой, всю жизнь, так получилось. С сестрой, а еще — с родителями, но это уже потом, сначала — просто с сестрой, ну и с братом, позже. Их было трое, две сестры и брат.
…их было трое, две сестры и брат. Ада старшая, Ада должна. Соня не может, Соня учится, а Иосиф маленький, и Иосифа забрали в детский дом. Если бы не Ада, он бы так и остался в детском доме, но была Ада, и Иосифа нашли. Соня училась, Ада тоже училась, но на вечернем, и как только стало возможно, они забрали Иосифа, он недолго провел в детском доме, всего пару лет, нестрашно, и плакать по ночам он тоже через пару лет перестал, да я вас умоляю, что может помнить ребенок в таком возрасте, ему же еще семи лет не было. Черные брови срослись почти посередине, у них у всех были фамильные черные брови, папины, и у Ады, и даже у Сони, и у Иосифа, с детства. Особенно у Ады.
— Она вроде незаметная была, Ада, в детстве Соня, вторая — гораздо бойчее, кавалеры, прогулки, полный дом друзей, профессорские дочки.
— Красивые?
— Соня — да, тонкое такое лицо, и косы до пояса, тогда так носили, и вечная улыбка в пол—лица, ну это до всего, конечно, так вот, Соня — да, а вот Ада — сложно сказать. Вроде тоже ничего, и тоже лицо тонкое, это у них фамильное, тонкие лица, но и эти огромные брови, суровый вид такой получался, и неразговорчивая она была, не улыбалась, не заигрывала, молчала больше. Или говорила, но уж что—нибудь такое, резкое, и люди обижались, она не любила пустых разговоров, вообще разговоров, вообще людей, кажется, не любила, она жила — как воз тянула, но это уже потом, конечно. Сначала—то она была просто молчаливая старшая сестра красивой Сони.
…доживать, сидя, не шевелясь, и чтоб чужие люди в моей квартире брезгливо осматривали мои вещи, перебирая — впрочем, это—то уже было. Уже были чужие люди, уже были голые подушки. Когда пришли арестовывать отца, мама стала биться головой об стену, хотя арест неожиданным не был, конечно, профессор, видный деятель, должность, квартира, зарплата, тогда всех таких арестовывали, мы жили в ожидании, понятно. И все равно как—то это оказалось — несвоевременно, что ли? Тогда все оказалось несвоевременно. Маму арестовали двумя днями позже, а нас — меня, Соню и Иосифа — в одну ночь вывезли в Киев. Тоже вроде как доживать, хотя мы—то как раз — выжили, выплыли, выжали из жизни всё, что только сумели, это я им выжала, Ада, вечная Ада, что бы они без меня. Ничего.
…это Алик меня так назвал под конец: вечная Ада. Подразумевая, что уж со мной—то точно ничего не случится. Может, и еще что—то подразумевая. А что со мной могло случиться, если случись что со мной, оно развалилось бы все целиком. Так что жила и была, вечная такая Ада, куда деваться. Еще меня Алик называл — немилая Ада, тоже одно из его бесконечных прозвищ. Но это — правильное, милые, миленькие, славненькие, это не про меня, я такого никогда не понимала и не хотела. Соня часто плакала ночью, кричала «мама, мама!», а потом ко мне с упреками: хоть подошла бы! Зачем? Разве мама вернется от того, что я подойду? Я устроилась на работу, кормила Соню и дала ей возможность учиться. Я вытащила Иосифа из детского дома и привезла к себе. Я работала на них на всех, как лошадь, и никто ни одного разу ночью не подошел ко мне. Ни единого разу.
— Соня тогда как—то сразу погасла, вся ее бойкость пропала, она растерялась и только плакала. Ада ведь старшая, и вроде как должна. Всё на неё и легло, на Аду.
— А своей семьи у нее так и не было?
— Нет, конечно, какая семья. До всего этого, может, кто—то и был, да кто о том знал, она ведь не делилась. А после — после вроде как было какое—то предложение, но она сказала «не могу связать тебя своей биографией». И — наотрез.
…альбомы, наверное, можно было бы и с собой, но зачем альбомы, когда — вся жизнь? Глупые фотографии для глупых старух, а в домах престарелых не бывает умных, я сама такая там буду — глупая старуха, да и не все ли уже равно. Я тогда так и сказала Алику — не всё ли уже равно? Отец в лагерях, мама там же, на руках — дети, какая, к бесам, семейная жизнь? Пусть хоть у тебя будет нормальная судьба, если мне не случилось. Алик очень протестовал, плакал, даже угрожал отравиться: вечная, мол, Ада! Но мне бесполезно было угрожать, да он это и знал. Наугрожались без него. Не до Алика было тогда, собственно, я Алика связала в узел и закинула на чердак, вместе со всеми письмами и признаниями, вместе со всей этой чепухой. Зачем Алику нужна была моя биография? Незачем, как и мои дети. Это мои дети, Соня и Иосиф, мои, не Алика. Я ведь тоже кричала ночами «мама, мама», но только не вслух. В той же комнате спал маленький Иосиф, его нельзя было пугать, его и так достаточно испугали — там, в детдоме. Я не подходила к Соне, а Соня не подходила ко мне. Я была немилая Ада, я и есть немилая Ада, и если я решу, что с собой — ничего, то так и будет. Пускай растаскивают, разворовывают, разносят. Мне не жалко.