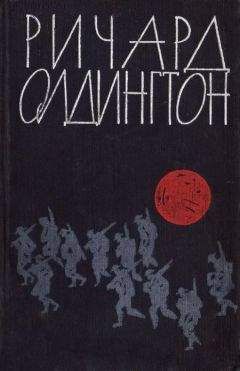Ричард Олдингтон - Дочь полковника
Все это, несомненно, помогло, но главное чудо было в том, что изменилось само лицо Джорджи. Во всяком случае, такое возникало впечатление. Оно больше не приводило вам на память раскрашенных гипсовых херувимов, дудящих в трубы. Что смягчило его контуры и придало нежность цвету этих излишне пухлых щек? Топленое сало тонкой очистки, ощущение непреходящего счастья или невидимые руки ангела-хранителя, массировавшего их, пока она спала? Конечно, объяснение могло заключаться и в пудре, но в любом случае даже нос ее перестал пылать здоровым румянцем деревенской молочницы, причинявшим ей столько мучений, и обрел более чинную гармонию формы и цвета. Детские глаза и губы остались детскими, но теперь они что-то обещали. Совиная тусклость глаз сменилась блеском, а губы… обман ли это зрения, или они безмолвно «сами „созрели вишни“ возглашали»? Если вы считали Джорджи просто ребенком-переростком, вы сказали бы, что за одну неделю она обрела юную женственность, а если она представлялась вам взрослой женщиной, к сожалению, сохранившей всю неуклюжую подростковую угловатость, вы решили бы, что она выглядит помолодевшей на пять лет.
И только Джоффри абсолютно не замечал этого современного добавления к «Метаморфозам» Овидия. Он дважды проходил полный курс научного укрепления и развития памяти (второй раз для того, чтобы вспомнить позабытое после первого) и, естественно, был до идиотизма ненаблюдательным. Сидя за обеденным столом в свой первый вечер в «Омеле», он воспринимал Джорджи только как «белую девушку своего круга». Только, так сказать, своим темным первобытным нутром, а вовсе не с помощью разума. Когда он сообщил Джорджи, что она первая белая и прочее, и прочее, он не совсем лгал. Его слабые неловкие попытки завязать интрижку с той или иной супругой того или иного собрата по строительству Империи неизменно завершались жалкой неудачей. На пароходе он, когда не спал, просаживал деньги в покер, нырял в бассейне или играл во всевозможные палубные игры с другими пассажирами мужского пола. Пассажирки же почти все были обремененные заботами матери семейств с желчным цветом лица. А потому в тот первый вечер Джорджи и правда показалась ему ослепительной красавицей. Но, разумеется, это ослепление долго сохраняться не могло. В первые же дни восхищенное упоение обычной английской жизнью поугасло, и Джоффри перестал уподобляться жителю лесной глуши, впервые ступившему на мощеную мостовую. Разъезжая в своем «бентли», он видел других женщин, в том числе и очень миловидных, а потому все вызванные его появлением до необъяснимости чудесные перемены в Джорджи только-только позволяли ей кое-как удерживать позиции, случайно занятые в первый вечер.
Однако Джорджи ощущала чудо не в том, что стала почти хорошенькой (этого она почти не осознавала), и даже не в своей радости или поразительном открытии окружающего мира. Завораживало ее сближение с Джоффри. Не забывайте, что у нее не было братьев и практически ни единого знакомого молодого человека одного с ней воспитания. Конечно, это счастливо избавило ее от соприкосновения с большим количеством глупости и от необходимости уступать бесцельному стремлению властвовать, тем не менее целое полушарие человечества оставалось для нее неведомым и манило своей загадочностью. Поскольку можно с полным основанием утверждать, что все ее существо было настроено на то, чтобы Джоффри ей понравился, нисколько не удивительно, что он ей нравился, и даже очень. Но ее это удивляло, как удивляло кузена, который не раз и не два вмешивался за столом в их веселую болтовню — такую непохожую на былое молчание или отвратительные поддразнивания! — и говорил что-нибудь вроде: «Конечно, я слышал про симпатию с первого взгляда и все-таки, хоть убейте, не понимаю, как вы еще находите, о чем поговорить!» И Джорджи умоляюще смотрела на Алвину, и Алвина галопом налетала на кузена, отгоняя его в немоту, словно была могучим жеребцом, а он — жеребцом-замухрышкой, покусившимся на ее любимую кобылу.
Джоффри не говорил ей всякие гадости про жизнь и человеческое поведение, как Маккол, и не прикасался к ней так, что она чувствовала себя запачканной. Джоффри любил поразглагольствовать, но в отличие от Перфлита не нашпиговывал свою речь намеками, цитатами и идеями, которые она не улавливала и не понимала. Собственно, Джоффри нравились только идеи, ставшие совсем сухими и стерилизованными от долгого употребления. Не страдал Джоффри ни профессиональной осторожностью, ни тем более пуританской узостью, обязательной для рукоположенных священников. Смешно было и подумать, что тет-а-тет за чаем он использует только для того, чтобы рухнуть на колени и прикрыть молитвой такое отступление от приличий. С другой стороны, Джоффри воздерживался от унижающих поползновений. И вообще от каких бы то ни было поползновений. Он столь скрупулезно удерживался в рамках, предписанных настоящим друзьям, что Джорджи, будь она покорена чуточку меньше, наверное, испытала бы некоторое разочарование. Более того, выпадали минуты, например в том приятном полузабытьи, которое предшествует сну, когда Джорджи с изумлением ловила себя на мысли, что вовсе не испытала бы ни малейшего унизительного чувства, вздумай Джоффри последовать примеру мистера Перфлита. Жизнь бывает для девушки очень и очень непонятной.
Они много катались на автомобиле. За рулем Джоффри щеголял клетчатой слегка сдвинутой на ухо кепкой с очень большим козырьком и впадал в уныние всякий раз, когда их обгонял владелец более мощного мотора. Он не забыл своего обещания научить ее управлять автомобилем. Но Джорджи, как ни старалась, плохо справлялась с этой премудростью. Джоффри часто должен был накрывать ее руки на руле своими, чтобы избежать столкновения, и это переполняло ее восторгом, но почему-то парализовало. Ощущая крепкое равнодушное нажатие его ладоней — его мысли были сосредоточены только на дороге, — она забывала обо всем и хотела только одного: пусть он подольше держит ее руки и не отпускает. Кроме того, она путалась в педалях: нажимала на акселератор, когда хотела сменить передачу, и на тормоза, когда хотела прибавить скорость. В результате Джоффри не раз приходилось хватать ее за щиколотку. Джорджи жалела только о том, что ее лицо тотчас вспыхивало. Но несмотря на все это, Джоффри непонятливо оставался настоящим другом и ни словом, ни намеком не выражал желания стать старым другом, понимающим все без слов. Жизнь бывает для девушки очень трудной.
Джоффри заявил, что лужайка слишком тесна для тенниса, и им следует перейти на часовой гольф. И вот они с Джорджи отправились на «бентли» в Лондон и перекусили в «Трокадеро», куда Джоффри захаживал во время войны, когда приезжал в отпуск. И Джорджи спросила, очень робко, очень смущенно:
— И вы… вы всегда бывали тут один?
— Нет, — ответил Джоффри, слегка нахмурившись. — Обычно я бывал тут с другими отпускниками.
— Но разве вы… вы ни к кому не были привязаны?
— Ну-у, — признал Джоффри, — собственно говоря, была одна девушка…
Джорджи даже вздрогнула от внезапной спазмы ревности.
— …мне казалось, что я немножко влюбился. Вы ведь знаете, как это случалось в дни войны.
— Она была очень красивая?
— Так себе, — ответил Джоффри с мужским вероломством. — Вообще-то миленькая, но я, право, забыл, как она выглядела. Ха-ха-ха!
— Но разве она не была вам очень дорога?
Джоффри поколебался, а затем решил последовать примеру Джорджа Вашингтона — в определенной степени.
— Собственно говоря… — Он поколебался. — Ну-у… одно время мы были помолвлены.
Еще один спазм.
— …но все кончилось само собой. Помните, как это бывало в дни войны.
— Я была с мамой, — просто сказала Джорджи.
И тут Джоффри стал очень милым и объяснил, что это все ничего не значило, и он даже забыл, как ее звали. Очень жалко, что он тогда еще не был знаком с Джорджи. Странно, как иногда не встречаешь именно тех, с кем хотелось бы познакомиться. И Джорджи согласилась и пожалела, что войны почти не видела, но мамин госпиталь находился бог знает в какой глуши, а работы было столько, что знакомиться не хватало времени. А Джоффри сказал, что это чертовски обидно и что ему ужасно не хватало настоящей девушки-друга, чтобы думать о ней в окопах, и, честное слово, он в жизни еще не встречал такой милой и свойской девушки, как она. Джорджи была ужасно рада и счастлива и почему-то почувствовала себя «ближе» ему, но все-таки малюсенький неприятный осадок остался: он ни слова не сказал о помолвке и даже не намекнул, что они понимают друг друга без слов.
Из «Трокадеро» они отправились в магазин, и Джоффри купил самый дорогой набор принадлежностей для часового гольфа, какой только там нашелся, хотя Джорджи и уговаривала его, что нехорошо тратить столько денег. Но Джоффри объяснил, что получает в год восемьсот фунтов, а «там» и половины не расходует, а к тому же, когда вернется, вскоре начнет получать тысячу. И Джорджи стало холодно и грустно при мысли, что он «вернется туда», хотя тысяча в год ее немножко ободрила: ведь сейчас, подумала она, многие женятся, имея куда меньше. Она подробно расспросила Джоффри о расходах, об условиях жизни «там» и пришла к выводу, что такой суммы на двоих более чем достаточно. Хотя взаимного понимания между ними еще не было, она не сомневалась, что Джоффри должен знать о ее чувствах к нему: сказал же он, что в жизни не встречал такой милой и свойской девушки, как она. И он совершенно прав, что не торопится. Ведь если они объявят о своей помолвке, ему уже нельзя будет оставаться у них — спать в одном доме со своим fiancé[25] не полагается, даже под охраной собственной матери. Конечно, это вздор и чепуха, люди теперь смотрят на веши гораздо шире, но мама и папа сочтут, что Джоффри следует уехать, а не то миссис Исткорт примется говорить всякие гадости.