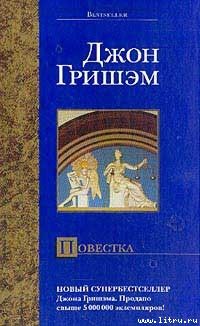Юрий Козлов - Изобретение велосипеда
Иногда Гектор ловил на себе насмешливые взгляды Алины, и ему становилось не по себе. «Я же приехал сюда из-за неё! — говорил он себе. — Я люблю её! Вот она, рядом! Что же со мной делается?» — Гектор бродил угрюмо вдоль моря, оставляя на мокром песке вереницы следов. Волны быстро стирали следы.
В дождь Алина вязала на спицах в палатке, а Гектор читал учебники и пособия для поступления в вуз. Он пытался учить наизусть разные даты, просил Алину проверить его, а Алина смеялась и говорила, что он ничего не знает. Частенько с Гектором беседовал на исторические темы Алёша Григорьев. Но историю Алёша видел совсем не так, как авторы учебников. Алёша рассказывал о погибших цивилизациях, о жестоких женщинах-пиратках, о каких-то самосожженцах, о свирепых инквизиторах, у которых даже янтарные чётки были в виде черепов, о Пунических войнах рассказывал Алёша, о становлении, расцвете и гибели Римской империи.
— Нет ничего вечного, — говорил Алёша. — Когда цивилизация молода — разврат целомудрен и естествен, его даже нельзя назвать развратом. Разве можно назвать развратом инстинкт продолжения рода человеческого? А когда цивилизация старится, то есть накапливает столько знаний, что использовать их не в силах, тогда инстинкт продолжения рода извращается, тогда на первое место выходит наслаждение. — Алёша умолкал. — Но я, — продолжал он, — я хотел бы умереть после прекрасного пира, после того, как рабыни омоют мои ноги, а гладиаторы вдоволь посражаются для моего веселья. Вот когда я бы хотел умереть… Мы, — говорил Алёша, — люди XX века, что мы видим в схватке гладиаторов? Кровь, страдания, животные инстинкты? А они, римляне, они видели совсем другое… — Алёша мечтательно умолкал.
— Что они видели? — интересовался любопытный Гектор.
— Они видели, как в зеркале, собственное величие, вот они сидят в Колизее и смотрят, как умирают другие…
— Значит, по-твоему, величие в том, чтобы заставлять людей умирать? — спрашивал Гектор.
— Не заставлять, — отвечал Алёша. — Распоряжаться жизнью людей. Можно было ведь поднять палец вверх, а можно опустить вниз. В Древнем Риме, по крайней мере, так понимали величие. Нищая римская сволочь могла гордо сидеть и наблюдать, как умирают, обливаясь кровью, разные там готы, франки, вандалы.
— А какой в этом смысл? — спрашивал Гектор.
— Ты мыслишь, как современный человек, — отвечал Алёша. — Откуда тебе знать психологию древних римлян? Когда убивали Юлия Цезаря, он заботился лишь о том, чтобы закрыть туникой нижнюю часть своего тела. И это, несмотря на всеобщее растление нравов. Величие, и достоинство, и покорность судьбе — всё это неразрывно… Но современному человеку этого не понять…
Дождь бил по крыше палатки, а Алёша Григорьев вдруг вздумал купаться. Он плавал в булькающем мутном море и чего-то орал. Его загорелое тело то выныривало, то снова исчезало в воде.
— Господи! — вздыхала Алина. — Нет от него покоя… Понимаешь, он такой человек, что, даже отсутствуя, действует на нервы. Я здесь сижу в палатке, а он в море плавает и орёт…
Последнее время Гектор всё больше помалкивал. Слушал, что говорили другие. Смутная какая-то тоска накатывалась, а потом уходила, как волна с берега. Всё чаще Гектор вспоминал мать, оставшуюся в пустой квартире, Инну, Костю… Гектор пытался обнимать Алину, но она была холодна. Предпочитала задушевные беседы. Так Гектор узнал, что у Алины был муж, с которым она год назад развелась. Гектор смотрел альбом Алины, там были рисунки — море, степь, дельфины, амфоры…
«Дачная» неделя подходила к концу. Гектор жил и не смотрелся в зеркало. Волосы стали длиннее, он похудел, лицо ещё больше почернело.
— Вот что, — сказала однажды Алина. — Послезавтра ты поедешь в Керчь, а оттуда в Ленинград, и тогда у тебя останется время, чтобы всё в последний раз повторить.
— А ты? — спросил Гектор.
— А я останусь, — ответила Алина. — Я буду здесь до первого сентября… Но, — сказала она, — завтра вечером я буду ждать тебя…
…Гектор побежал по берегу, наступая на колючки, солнце жгло спину, а в ушах пел ветер, дельфин в море поблёскивал белым брюхом, а в небе дремали чайки, распластав крылья. Гектор увидел, как ветер перебирает перья в их крыльях. Он увидел Алёшу Григорьева, сидящего на берегу и склеивающего амфору. Алёша попытался поймать его за ногу, но слишком быстро бежал Гектор! Наташа и Руслан в это время потели в палатке и не видели Гектора, а Света колдовала над отчётом о первом месяце экспедиции — она подняла голову и посмотрела вслед Гектору. «Спятил…» — подумала старая археологиня Света.
— Спятил! — заорал Алёша Григорьев и, осторожненько положив амфору набок, помчался за ним. Гектор добежал до самого высокого пятнадцатиметрового утёса и прыгнул вниз, красиво прокрутив тройное сальто. В воду он вошёл точно и безболезненно. Когда Гектор вынырнул, в воде рядом уже фыркал Алёша Григорьев.
— Это твой лучший прыжок, бестолочь! — хлопнул он по плечу Гектора. — Наконец-то в тебе проглянуло что-то от настоящего мужчины! — Алёша счастливо смеялся, словно сам первый раз удачно спрыгнул с утёса. Наперегонки они плыли с Гектором к берегу.
— Обогнал! — ликовал Алёша на берегу. — Обогнал! Спятил!
Гектор лежал на спине и смотрел на солнце.
— Жаль, — сказал вдруг он. — Жаль, что больше нет гладиаторских боёв. Сегодня я бы победил тебя…
55
Закат поднимался над городом красным,
Окрасив стены домов измождённых.
Но тени, сгущаясь объятием алчным,
Сжимают тела мостов разведённых…
«Все рифмы — одни прилагательные, — подумал Костя Благовещенский. Он шёл по тёмному между домами и светлому на перекрёстках Невскому, задевая прохожих. — Отчаянье, — думал Костя, — оказывается, это вовсе не страдание… Пустота, пустота — вот что такое отчаянье! Всё равно как пчела возвращается в родной улей, куда она всё лето таскала мёд, а все соты голые! И ведь какая это пошлость, — думал Костя, — несчастная любовь… Да, я глуп, смешон, нелеп, потому что я хочу чего-то от человека, который от меня совершенно ничего не хочет! Но я не по своей воле глуп, смешон и нелеп! Я ненавижу себя, когда я глуп, смешон и нелеп! Но когда я рядом с ней — это мой удел! Почему? Опять этот Невский, — думал Костя и вспоминал строчки из какого-то стихотворения: «стёрто здесь немало дней твоих, надежд и каблуков…» Много, много здесь всего стёрто… Была девушка, — думал Костя с нежностью, — она сидела перед зеркалом, расчёсывала волосы, а в глазах у неё плавали льдинки… А я сидел, как пёс, которого выгоняют, пинают ногами, жрать не дают, а он, подлец, скулит, не уходит… Лижет ручки… Как звонко положила она железную расчёску перед зеркалом! «Костик! — сказала она. — Я любовница Гектора Садофьева… Иди домой…» И я пошёл, — думал Костя, — как тупой нож вонзился в вечереющий Невский, и белая ночь задыхалась на небе, а часы на Думе пробили двенадцать! Уж полночь минула, а Костика всё нет! Вперёд! Ах, Инна… Ах, Гектор… Почему же вы так долго молчали? — думал Костя. — Надо всё проанализировать, — твердил он себе. — Во-первых, правильные, всё объясняющие мысли спасают от отчаянья… Во-вторых, вдруг она меня обманула? Конечно! Конечно, она меня обманула! Чтобы я к ней не приставал, не звонил, не ездил на дачу! Господи, а я, дурак, ей поверил… У них ничего не было! Я же столько говорил с Гектором перед отъездом! Нет! — кричал себе Костя. — Не надо себя утешать! Инна сказала правду! Инна любит Гектора, но Гектор не любит Инну. Она сама… Да, она сама! Она, а не он! Я уверен! Я бы мог взять её на руки и унести куда угодно… Над городом, над Невским, над толпой, над всеми я бы понёс её… Будь же ты проклята, первая любовь! Теперь я знаю, за что люблю Восток — за выжженные пустыни, за ненависть к женщине! В гаремы, как овец, по триста штук! Мужчина — всё! Она — ничто! Великий мой Восток… Моя первая и последняя любовь…» — опустив голову, шёл Костя Благовещенский по Невскому. И всё было как всегда. Те же троллейбусы со знакомыми с детства номерами, и магазины, и булочные, и дома, и мосты, и памятники — настолько знакомые, что хотелось свернуть, пойти другой улицей, но и там тоже всё было знакомо. Невский кончился. Костя ступил на Охтинский мост и пошёл над Невой, по которой плыли баржи и буксиры. Нева — река-работяга. Костя стащил с головы вельветовую коричневую кепку. Он был похож в ней на венгерского гусара времён первой мировой войны. Так сказала ему в библиотеке гардеробщица. Юной девушкой жила она в Галиции, где в тысяча девятьсот четырнадцатом году хозяйничали венгерские гусары в таких, как сейчас у Кости, высоких кепках. «Первая мировая война, — усмехнулся Костя. — Первая мировая любовь… В этом глупом сопоставлении есть логика. Прощай, моя первая мировая любовь! Я дезертирую… Я сражался за тебя, пока были силы… Теперь всё… — Костя снял кепку и бросил её в Неву. — Надо завтра повторить части речи…» — подумал Костя. Кепка несколько раз перевернулась в воздухе и шлёпнулась в воду. С моста её было не видно. Дальше Костя пошёл простоволосый.