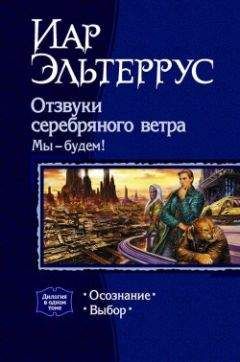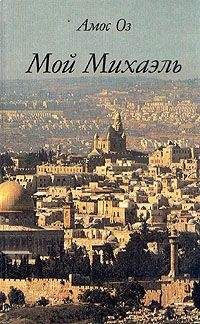Владимир Киселёв - Весёлый Роман
Я сказал, что подумаю.
У нас тут, конечно, неплохо платили, но этот Артуро предлагал уж слишком соблазнительную ставку. Как министру.
«Женщина, если ты когда-нибудь встретишься с богом, спроси у него: любил ли тебя кто-нибудь сильнее, чем я».
Я не могу отвязаться от этой мелодии. «Женщина, если ты встретишься с бегом…»
Но что значит любить? Кого мы любим? Какой должна быть эта женщина? Красивой?.. Вера была очень красивой. Она приехала из Москвы и говорила, что специально для того, чтоб увидеться со мной. Вот и увиделись. Никого из нас не обрадовала эта встреча.
— А ведь ты прежде был таким веселым, — сказала Bepa. — Самым веселым человеком из всех, кого я знала.
Я отшутился маминой пословицей, что горе только рака красит. Она тоже изменилась, но я ей ничего не сказал об этом. Нет, она не то чтоб постарела, она еще лучше, чем прежде, выглядела, и, когда мы шли по улице, на нее оглядывались. Правда, это теперь уже не щекотало мне нервов и я не присматривался к тому, кто на нее оглядывается. У нее изменились руки. Вот руки у нее теперь совсем не подходят к ее лицу и фигуре. Они у нее почему-то стали такими, как у моей мамы. Руками пожилой женщины. Они словно старше ее. Странно это. А в общем, говорить нам было не о чем.
— Ты жалеешь, что мы расстались? — спросила она.
— Очень жалею, — ответил я, стараясь сказать это поубедительней, чтоб не обидеть ее. На самом деле я не жалел.
…Красивой?.. Федина Света очень красивая. И добрая, и веселая, и любит ее Федя без ума. Теперь, когда я живу у них, мне это стало еще видней. Но мне стало видней и то, как Федя краснеет и отводит глаза, когда она разговаривает с кем-нибудь из его товарищей или из его аспирантов, — они все время приходят в дом. Ревнует он ее, что ли? И почему он ей не доверяет? Ведь во всем остальном он очень доверчивый человек, мой старший брат Федя.
И нехорошие мысли приходят мне в голову. Может, было между ними что-то такое? Может, и детей у них столько потому, что Федя замечал что-то такое? Может, он сам не осознает этого?
В общем, дело не в красоте, потому что красоту люди видят совсем в разном, и влюбленному, говорят, самой красивой кажется та, которую он полюбил.
Ум? Ну за ум можно уважать. Это верно. А любят за что-то другое.
Зарядку я не стал делать — у меня ломило кости, как бывает перед гриппом, и текло из носа. Я долго перебирал в голове, чего бы мне сейчас хотелось съесть, но так ничего и не придумал. А это самый лучший способ определить, не грипп ли у тебя. Если исчез аппетит и желание курить — значит, ты простудился.
— Рома, завтракать, — позвала меня Света из соседней комнаты.
Я оккупировал Федин кабинет.
— Что-то не хочется, — ответил я.
— Не выдумывай, — сказала Света, — Я так старалась! Королевский завтрак. Гурьевская каша, яйца всмятку, ветчина, джем и кофе.
Я молчал.
— Дети без тебя не захотят есть.
— И не надо им со мной завтракать. Кажется, у меня грипп начинается.
— Измерь температуру, — предложила Света. — Сейчас я принесу термометр.
Она села рядом, и, пока я измерял температуру, она кричала на ребят, чтобы они не таскались в кабинет.
— Тридцать шесть и семь, — сказала Света. — Симулянт. Я пошел завтракать.
С тех пор как я сюда переехал, Света не нарадуется. Она говорит, что за неделю теперь успевает в своей научной работе больше, чем прежде за месяц, — она микробиолог, что у меня особый талант обращаться с детьми, и, если я уйду от них, она немедленно выбросится в окно. Она утверждает, что не ревнует пацанов ко мне, но очень мне завидует, как это у меня получается.
Мне в самом деле хорошо и легко с Федиными братьями-разбойниками. Мне с ними не скучно, а Света и Федя не могут этого понять. Мы с пацанами деремся, играем, бегаем, запускаем змеев, ходим на «Бесстрашный рейс», где мои племянники так кричат «Рома!», что заглушают мотоциклы. Кроме того, мы прожигаем жизнь в кафе-мороженом.
Конечно, для Светы это большое облегчение. Я и так удивляюсь, как она успевает работать, готовить еду, убирать и справляться с четырьмя пацанами. Удивительные бывают женщины.
В общем, и Света, и Федя очень довольны, что я живу у них. Но вот наши родители…
Не хотелось мне возвращаться домой. На душе у меня было и так гадко, а мама не такой человек, чтоб смолчать.
И батя и мама вроде не удивились, что я перешел к Феде. Но, когда я устроил этот скандал на собрании и уволился с завода, вечером приехали наши родители. Я с горя выпил с дядей Петей его «ерша», и мне море было по колено.
Никогда я не видел батю таким раздраженным и мрачным, как в тот вечер.
— Опозорил, — сказал он удрученно. — Людям стыдно в глаза смотреть.
— А что я, неправду говорил!
— Неправду, — отрезал батя. — Что ты в этом понимаешь? Ты знаешь, как нас снабжают? Из Москвы с Первого завода подшипники для комплектации самолетом возим. А как мы получаем электрооборудование? Моторы? Вот откуда штурмовщина. Когда б не такое снабжение… А ты — на людей. С картинками вонючими.
— Так пусть налаживают снабжение. Они для этого газеты читают и зарплату получают, — обозлился я.
— Налаживают. И не считают себя умнее всех. Не выскакивают. Все молчали, один на всем заводе разумник нашелся. И тот с завода ушел.
— Да! Потому что надоело мне все это. Надоели люди, которые не выскакивают, вся эта ваша золотая середина. И вся эта теория малых дел. Виля правильно говорит, что она всегда появляется во времена малых дел. А я считаю: или все, или ничего!
— Или все, или ничего — это не лозунг, — покраснел батя. — Это для таких, как ты, лозунг. А тем, кто занимается настоящим делом или стоит у власти, приходится идти на уступки. Иногда против своей совести, иногда против чужой. И всем, кто живет в семье, приходится идти на уступки, а не прятаться от матери и отца.
Я в ответ стал говорить что-то такое о людях, которым кажется, что самое главное — быть такими, как все, ничем не отличаться от других, что такие люди во всем, не задумываясь присоединяются к большинству, всегда поступают, как другие, легко мирятся с любым безобразием, а я не желаю быть таким человеком.
Мама еще больше поджала губы. Я ожидал что она скажет какую-нибудь свою поговорку вроде «Треба було вчити як годували»,[18] но она молча повернулась и пошла к двери. А батя — за ней.
Грызет меня все это. Не знаю я, как все это поправить.
Зазвонил телефон.
— Рома, тебя, — сказала Света.
Я пошел к телефону. Думал, мама. Но звонил Андрей Джура. Чихая в трубку, он сообщил, что простудился и сегодня не придет, что вызвал врача, у Павла Германовича телефон не отвечает и чтоб я ему это все передал.
Я не сказал Андрею, что и мне нездоровится. Как-то неловко было. Ведь температура у меня была нормальная. И кто будет выступать, если все заболеют? Тем более что Павел Германович никогда в жизни сам не болел и совершенно не понимал, как могут болеть другие.
«Я взглянул окрест меня» и увидел, что галерея уже заполнилась людьми, которые, переговариваясь, старались занять места поближе к барьеру, чтоб лучше видеть, чтоб ничего не упустить. «Обратил взоры мои во внутренность мою и узрел», что выступать сегодня мне не хочется, что езда по вертикальной стене утратила для меня и смысл и привлекательность.
«Зачем они сюда ходят?» — думал я о зрителях. Вон знакомое лицо. Еще не старый человек со светлыми глазами, в которых, как мне казалось, затаилось безумие. Этот человек приходил каждое воскресенье. И выстаивал на галерее по три-четыре заезда. Покупал билеты наперед. Обменивал одни ценности на другие.
Что его привлекало? Риск, которому подвергали себя гонщики на его глазах? Жизнь — самое высшее достижение природы на земле. Поэтому она должна быть и высшей ценностью. А тут за низшую ценность — за копейки — рисковали этой жизнью. Ведь именно для того, чтоб создать видимость большего риска, так трещали и стреляли наши мотоциклы, и Тамаре завязывали глаза черной газовой косынкой.
Или вон горбатая старушка в черном. Нянька или бабушка. Она приходит с ребенком — девочкой лет пяти. Я ее тоже видел уже несколько раз. Зачем она сюда приходит? Губы ее все время что-то шепчут. Молитву? И какую?
Анатолий Петрович как-то рассказывал, что русский поэт-эмигрант Юрий Одарченко написал в Париже такие стихи:
Помолюсь за стальной пароходик.
Шепчет на ухо ангел: «Не так
Ты молитву читаешь, чудак.
Повторяй потихоньку за мной, —
Со святыми его упокой,
Пароход, пароход, пароходик».
Может, молитва этой старушки была такого же рода? А чем иначе можно объяснить существование таких отвратительных зрелищ, как бой быков? Эстетическим наслаждением, которое получают зрители? Но если бы речь шла только об эстетическом наслаждении, быкам следовало бы обрезать рога. А матадору давать в руки шпагу с кисточкой на конце. Пусть бы он ставил краской метку на месте, куда он прежде вонзал шпагу, чтоб зрители убедились в его мастерстве. Но ведь так не поступают. Матадоры убивают быков, а быки калечат матадоров. Под аплодисменты зрителей.