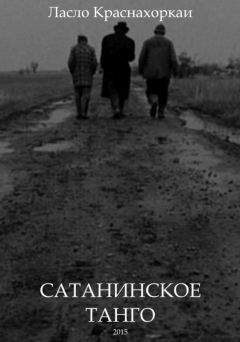Анатолий Приставкин - Судный день
– Не было? Вы уверены?
Костик пожал плечами.
А что еще оставалось делать?
Хотя старший лейтенант ему тогда вовсе не приказывал, он и не мог ему приказать, он только спросил: «Ну?» Что означало: «Как ты думаешь, можешь ли ты это сделать? Если можешь и если хочешь, тогда бери инструмент и в путь, да не тяни, а то потом тяжелей решаться будет».
А может, это Косте показалось, что будто ему так хотели сказать, и это неопределенное мычание «ну» означало иное, то есть недоумение командира перед невыполнимостью задания?
– А экипаж где? – спросил Костик, но спросил лишь затем, чтобы протянуть время и прикинуть хоть на глазок свой маршрут до самоходки, где и как ему нужно проползти.
– Тут они, – указал старший лейтенант на бугорок. – Окопались… Ждут…
Это последнее слово тоже указывало на то, что необходимо работу сделать. Ведь ее ждут, и ждут для боя, который не кончился, а идет сейчас вокруг них.
Костик еще раз смерил глазом расстояние, взял инструмент в холщовой замасленной противогазной сумке и побежал, делая зигзаги и пригибаясь, теперь он был весь на виду.
– Дальше, дальше, – сказали ему. – Что было дальше, Ведерников?
– Я стал работать, что еще?
– Внутри? В самоходке?
– Да. Внутри. Только жарко было. Нечем дышать, – сказал он.
Работал он по привычке на ощупь, отсоединил тяги, рычаги управления. Все как в цехе, но там проще, во всяком случае, знаешь, что кругом бригада, и ты на смене… Можешь перекур сделать, баланды похлебать, отдышаться…
От пота стал весь мокрый. Высунулся наружу, ртом воздух ловил. Старший лейтенант ему из ложбинки рукой махал, мол, пригнись, дурак, башку ведь снесет! Ничего Костик не видел, хотел надышаться воздуха, потому что ослеп от пота…
А снаружи-то солнышко да травка на проплешинах, а чуть дальше солдат бежит, пригнувшись, пулемет за собой тащит. Костик загляделся, как бежит солдат, мелко перебирая ногами, будто в какую играет игру: вправо, влево, и опять вправо, влево… И вдруг кустик вырос на том месте, где солдат пробегал. А когда рассеялись земля и пыль, уже не было никого: ни солдата, ни его пулемета.
Остолбенел Костик от такой картины. Круги красные пошли перед глазами. Тут только дошел до него жест старшего лейтенанта…
Нырнул вовнутрь, а руки дрожат, и никак он не может попасть ключом в нужное место! А тут глухой удар потряс корпус самоходки. Костик ничего не понял: потерял сознание. Ему показалось, что минуту или две он пролежал с закрытыми глазами, а прошел час. И этот час и экипаж, и старший лейтенант ждали: жив или нет этот замухрышистый, отощавший на тыловых харчах слесарек, который добровольно с ними поехал из Москвы, а теперь так настырно пер под самые пули.
Он лишь почувствовал звон в ушах, голова была цела. Он ее руками ощупал. Подтянулся: солнце ударило по глазам. Боже, а тут все тот же праздник весны, он уже забыл в темноте, в железном своем гробу, как это выглядит, будто вечность прошла! Бежит к нему старший лейтенант, не выдержал, значит. Кричит на ходу, что-то указывая вперед. Оглянулся Костик, дымится болванка снаряда возле самого борта, не взорвалась, значит, только брезент землей засыпала! Он еще подумал, что не взорвалась, значит, уже не страшно, а взорвись, так и не почувствовал бы все равно, как тот пулеметчик, что не убежал от своего снаряда.
А старший лейтенант подскочил, лег за гусеницу и кричит ему.
– Хватит! – кричит. – Уходим! Больше нельзя ждать!
А сам к земле жмется и глазом, вывернувшись, на Костика смотрит, и лицо у него белей, чем пыль на гимнастерке.
– А чего ждать? – сказал ему Костик. – У меня же готово…
– Готово? Сколько же часов? – спросил допрашивающий.
– Я не считал, – сказал Костик. – У меня и часов нет.
– Но все же?
– Часа четыре, что ли…
– И все внутри?
– Да. Только там жарко было.
– А дальше что?
Костик задумался.
– Ну, они проползли, опробовали моторы…
– Вы говорите про экипаж?
– Ну да. Развернулись, мы больше и не видели, они ведь в бой ушли.
…Он еще прислушался, лежа в балочке на траве, моторы работали как надо. Но тут что-то рыкнуло за кустами, и в небо наискось к горизонту изрыгнулось пламя. «Катюша», – крикнул старший лейтенант. Вот уж сколько они кроме танков и самоходок там же, на заводе, этих «Катюш» наклепали, а не представлял Костик, что они так противно скрежещут. Для врага – так, наверное, очень противно, а для себя – приятная такая противность, а может, и не противность вовсе.
А еще через несколько минут «газик» во весь опор, высоко подпрыгивая, несся в сторону от боя, и тут только Костик и остальные рядом с ним поняли, что опасность позади.
Костик попросил остановиться, отошел подальше, его качало, как от ветерка. Присев, стал он выташнивать из себя какую-то желтую горечь… Его долго рвало.
41
Он открыл глаза с ясным пониманием, пришедшим к нему мгновенно, что весь допрос и все его откровения случились с ним во сне. А значит, и страхи его с разоблачением нереальны; зазря он трясся там, на сцене клуба, ожидая, когда Зелинский спросит у него, почему-то казалось, что этот Зелинский все знает: «Все преступления твои, братец, налицо, кроме одного… И ты знаешь какого?»
Да и кто, если подумать, мог догадаться, что за странная трехнедельная командировка оказалась на завод ЗИС, после которой он приехал молчаливей прежнего… Рассказывал лишь про баню с белыми простынями, которая поразила его воображение, про Москву, а про остальное железно молчал.
По ночам лишь просыпался от липкого страха, заставлявшего вздрагивать и слышать, как учащенно барабанит сердце, переживая сильней, чем наяву, увиденное и услышанное за тот короткий срок. И – особенно – этот, доносящийся до него голос: «Ко-стик!»
Костик оглянулся. Показалось, что кто-то позвал. Светило в рыжие от грязи стекла под самое перекрытие солнце, его косые лучи пятнали стены и пол. Слух уловил музыку, но не поверилось, откуда бы ей взяться здесь, на заводе. Но музыка и впрямь звучала, она доносилась со двора, то сильней, то тише, это были марши…
Швейк прокричал привычное:
– Кончай ночевать! Последний бежит за доппитанием!
Силыч пробурчал про козу Мурку, которую бы пора доить.
Швейк сказал:
– А мне сон приснился про твою Мурку, знаешь?
– Ну, ну! Говори!
Все и Силыч уставились на Швейка, привычно ожидая занятной байки.
– Эх, как там моя Анечка… Единственная, неповторимая, вечная… – потянулся Швейк, оглядывая всех и улыбаясь.
– Ты про козу давай! А про Анечку и Людочку мы знаем!…
– Вижу я, идет по поселку Силыч и ведет свою козу, – начал Швейк и замолчал.
– Рассказывай! – разрешил Силыч, посмеиваясь.
– Разрешаешь?
– Конечно!
– Так вот, ведет он козу на веревочке, а навстречу ему милиционер.
Тут проснулся Костин страж и сразу спросил:
– Кто? Кто?
– Не вы! Не вы! – быстро отреагировал Швейк. – Другой совсем милиционер. И спрашивает он Силыча, кого, мол, ты ведешь-то? А Силыч отвечает: «Кота вывел на прогулку…»
– Кота? – спросили ребята. И Силыч удивился.
– Ну да, говорит, кота Мурку… – продолжал Швейк. – «А чего же у твоего кота рога выросли?» – спрашивает милиционер…
А Силыч и отвечает…
– Ну? Ну? Что отвечает Силыч-то? – спросил кто-то, хихикая.
– И Силыч отвечает… Рога… Это, мол, его интимное дело…
Тут влетела в цех Ольга Вострякова.
– Сидите? – спросила, а у самой рот до ушей. – Ничего не знаете?
– Знаем, – пробурчал Силыч, которому помешали дослушать историю, нарушив под самый финал. – Из прорыва вышли…
Швейк добавил:
– И милиция помогала!
– Да нет! Нет! – произнесла Ольга, сияя, из нее так и рвалось, и никак она не могла высказаться. И вдруг произнесла так, будто до самой только дошло: – Ребята… Ведь победа…
Так оно прозвучало для них для всех первый раз.
А потом каждый из услышавших сам попытался произнести это слово. Но не так, как прежде, когда его ждали и когда оно выходило как бы вопросительно, а по-новому, будто бы пробуя его на вкус и понемногу с ним сродняясь, находя свою собственную, личную в нем интонацию.
Победа. Победа. Победа. Победа. Победа. Победа. Победа.
Вот столько раз его повторили. Это слово пришло не извне, а родилось внутри каждого, и потому оно стало сразу своим, обозначающим самое откровенное в жизни, до конца ее. У каждого не только само слово, но и сама Победа была своя, хотя и общая со всеми. И никто, наверное, еще не догадывался, что теперь оно будет звучать для них всю жизнь, ибо сам день, которого они еще не знали, не видели, станет для них одним из самых дорогих и близких дней… Чем далее во времени, тем глубже, сильней для его понимания.
Сейчас же этот день никак не осознавался в исторической перспективе, а казался лишь границей, за чертой которой заканчиваются все в мире страдания, все потери, все смерти, а начинается новое, которому, хоть оно и мир, но нет реального названия. Мир – уж слишком просто и обыкновенно, а то, что будет, будет, ясное дело, необыкновенно и прекрасно.