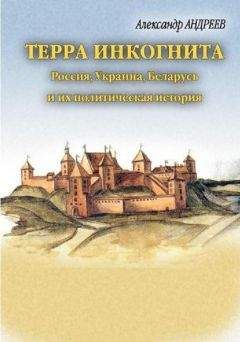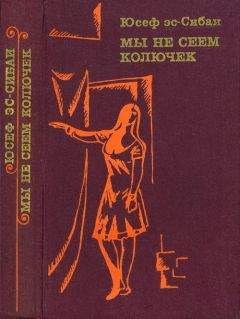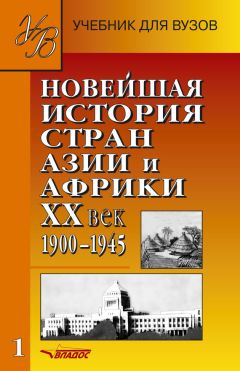Лия Флеминг - Забытые письма
Сельма, с тех пор как поселилась у Рут, постепенно втянулась в жизнь Брэдфорда со всеми ее шумными городскими развлечениями. Они побывали на настоящей пантомиме в театре, сходили в кино, на музыкальный концерт в Сент-Джордж-холле и на любительское представление «Аркадий» в исполнении Уэслейского оперного общества.
Ей так много хотелось рассказать матери о своей новой работе – она устроилась няней к маленькой девочке, Лайзе Гринвуд. Лайза начала ходить в школу, ее отец преподавал в Университете Лидса. В обязанности Сельмы входило встречать ее из школы, готовить ей простую еду и присматривать за тем, чтобы она готовила уроки, пока отец не вернется с работы.
Поначалу ее поразило, что по происхождению они немцы. Это были первые немцы, которые ей встретились. Но оказалось, что у мистера Гринвуда вовсе не растут рога из ушей. Довольно-таки пожилой, поседевший – белыми были и волосы, и усы. Читал курс по технологии текстильного производства в Лидсе. Это был образованный человек с добрым огоньком в глазах. Лайзу на самом деле звали Элизой Грюнвальд, но они сменили имя на более английское по звучанию. Девочка была чудесной, не по годам серьезной. Ее мать умерла, когда она была еще маленькой. Лайза была умницей, училась играть на фортепиано и скрипке. Они с отцом разговаривали между собой по-немецки, но с Сельмой она всегда болтала на своем школьном английском. Их дом был полон книг, и Сельме было позволено брать с полок любую. Больше всего ей нравились красивые книжки с изображениями картин и скульптур.
Вилла-Роза внешне напоминала дом тети Рут, но внутри было все совсем по-другому: кругом беспорядок, темная тяжелая мебель, на стенах картины в рамках, тут и там горы газет, инструментов, книг, и надо всем этим – густой аромат сигар.
В начале войны профессора Гринвуда отправили в лагерь для немцев, и Лайза оставалась под присмотром соседей, пока американцы и какие-то важные шишки не вступились за него и не освободили его.
Отец с дочерью были очень близки, и это было совсем непривычно для Сельмы. Они хохотали, что-то обсуждали, ссорились из-за беспорядка в доме, придирались друг к другу по мелочам – от их споров иной раз просто уши начинали болеть. Профессор разговаривал с Лайзой так, словно она взрослый человек, а не ребенок, но при этом сознавал, что для некоторых вещей в доме все-таки требуется женская рука.
– Только вы уж постарайтесь, чтобы она стала не слишком синим чулком, – шутил он. Но Сельма не очень понимала, что он имеет в виду.
По выходным они ходили в театр, по воскресеньям часто встречались с другими своими друзьями-немцами. В церковь они не ходили.
– Я еще не нашел такой церкви, которая сумела бы дать ответы на все мои вопросы, – объяснил ей профессор.
Они никогда не разговаривали о войне или об их семье. Он выбрал для себя Англию и оказался отрезан от своих родных.
В серебряной рамке на стене висел портрет матери Лайзы. У нее было такое же сильное лицо, как у дочки, светлые волосы, синие глаза, выдающиеся скулы и длинный нос. Хорошенькой ее не назвать, но было в ней что-то, притягивавшее еще сильнее.
Сельма часто задавалась вопросом, как же ее угораздило попасть на такую интересную работу. Ей так многое хотелось рассказать матери, но ту, похоже, совсем не интересовал ее новый, такой волнующий мир.
Рут расстаралась с угощением к вечернему чаю. Они с Сельмой отстояли очередь за пшеничной мукой и собирались напечь пирожков, но потом еще раздобыли яйца и приготовили бисквит. Мама едва ли вообще заметила его. Она очень похудела за те месяцы, что прошли после гибели Фрэнка.
– Как дела у Эйсы? – спросила Рут. – Вернулись заказчики?
– Да-да, очень странно, просто удивительно. Ее светлость оказала нам честь своим покровительством. То и дело присылает заказы, а за ней потянулись и ее арендаторы. Так что Эйса не сидит без дела, а теперь вот снова начал и церковный класс вести по изучению Библии, даже подумывает выучиться на проповедника. Голова у него сейчас забита комментариями к Библии, а в деревне у нас новый пастор, но мне он не слишком нравится: больно уж цветисто плетет, да все ни о чем. Ему, наверное, просто нравится звук собственного голоса. Народу к нему собирается все меньше и меньше, – добавила она, помолчав.
– А собрания Женского института ты все еще посещаешь? Я слышала, у него теперь по всей стране группы? – не унималась Рут, надеясь расспросами вытащить Эсси из застывшего унылого остолбенения.
– Нет, я не хожу после того, как… Ну, ты знаешь, мне некогда.
– А ты все же постарайся, – поспешно ответила ей сестра и резко сменила тему: – Ну, и что ты скажешь о нашей Сельме? Не правда ли, она стала премиленькой штучкой тут с нами?
Эсси оглядела дочь с головы до ног.
– Да, но я удивлена, она уже не в трауре! Прошло всего девять месяцев!
– Мама, говори со мной напрямую, я здесь! Я носила траур до самого Нового года. Но потом тетя предложила мне добавить немного светлых красок. И у меня ведь теперь работа!
– Да, я слышала. Но не очень понимаю, к чему девочке одиннадцати лет еще и няня. Она же давно не малышка! – фыркнула мать.
– У нее нет мамы, а профессор целыми днями на работе. А еще я хочу попроситься в нашу актерскую труппу при церкви, они ставят спектакли, варьете, может быть, и у меня что-то получится.
– Как же быстро наша вера выветрилась из твоей головы. Папа очень огорчится.
– Эсси, ну как можно, девчушка молода только раз в жизни! – запротестовала Рут. – Не лишай ее возможности встречаться с молодыми людьми ее возраста! Ну какой в этом вред?!
Эсси смерила ее взглядом.
– Я не вписываюсь к вам со своими придирками, да? Сельма, ты поступай так, как считаешь нужным. Я уже не понимаю, что случилось с миром, куда он катится. Что принесла нам эта война, кроме крови, пота и слез? У меня нет сил, и Эйса так исхудал и вымотался, дунь ветерок – упадет. – Эсси остановилась и со вздохом оглядела комнату. – Хорошо у тебя, Рут. У тебя всегда был хороший вкус. Мне спокойно, когда я знаю, что у Сельмы есть хороший дом, если вдруг с нами что-то случится.
Рут не желала слушать подобного.
– Эсси, да что с вами случится?! Прекрати ты эти упадочнические рассуждения! Мы хотели тебя порадовать, а не разговаривать бог знает о чем…
– Считается, смена обстановки и есть лучший отдых, но я никогда себя здесь хорошо не чувствовала – давят на меня эти ваши высоченные трубы, фабрики… Душат дым, гарь… Но, видимо, у такой обстановки есть и оборотная сторона, и я горжусь вами, обеими горжусь, вы испекли такой чудесный бисквит! – И она заставила себя улыбнуться. – Только простите меня, но совершенно нет аппетита. Я в последнее время совсем не чувствую вкуса еды. Кусок в горле застревает, едва могу проглотить что-то. Порой кажется, что следующий кусок просто не пройдет, подавлюсь.
– Тебе надо показаться доктору, – встревожилась Рут.
– Вот уж не собираюсь я отдавать ему свои кровные денежки за то, чтобы услышать, что я и без него знаю. Внутри у меня все выгорело. Должно быть, время пришло.
– Какое время? – не поняла Сельма.
– Не обращай внимания, Рут знает, о чем я. Не одно допечет, так другое.
Проводив Эсси домой поздним вечером, Сельма в глубине души испытала облегчение. Тягостная получилась встреча, а скоро ей придется возвращаться домой. Но еще не сейчас, надеялась она. Она очень любит своих родителей, свой дом, но не уверена, что ей хочется сию же минуту вернуться туда. Брэдфорд все больше ее захватывал.
* * *Небольшой памятник на площади Вязов Эсси заметила несколько недель назад: деревянный крест, у подножия букеты цветов и Юнион Джек, и приколоты записки с именами. Но к концу лета 1918-го букеты увяли, а записки посдувал ветер. Вокруг только и разговоров было, что скоро наступит мир. Правда, говорили соседи об этом не с ней.
Та первая волна ненависти к Бартли, стихийные случаи вандализма, разбитые окна и подброшенные письма, полные злобных строк, сменились холодной тишиной. Эта холодность оказалась многократно страшнее, перешептывание за спиной было невыносимым. Поездки в автобусе становились все тяжелее, и в конце концов она решила преодолевать две мили до Совертуэйта пешком, лишь бы избежать этого тягостного молчания вокруг себя. Она часто озиралась, надеясь снова увидеть ту странную фигуру, явившуюся к ней тогда в тумане, но фигура не появлялась.
Единственный человек, кто по-прежнему относился к ним с ровным дружелюбием, была их помещица – она заглядывала к ним, привозила для Эйсы новые заказы. За последние несколько лет она тоже резко постарела, одевалась только в черное, щеки ее ввалились, под глазами обозначились темные круги. Выглядела она так, будто ей не помешал бы хороший обед, а лучше заодно и ужин.