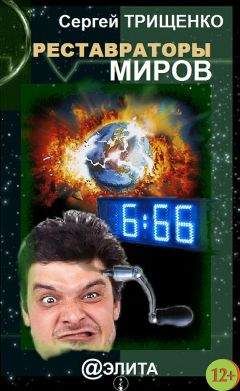Гюнтер Грасс - Мое столетие
Порой, когда мы с фрау Шольц смотрели «Линденштрассе», я вспоминала первые годы своего замужества, когда мы с твоим дедушкой смотрели в маленьком ресторанчике, где уже тогда был телевизор, серию «Семейство Шорлеманн». Черно-белую, конечно, а значит, где-то в середине пятидесятых годов.
Но ты хотела для своей работы узнать, что еще было интересного в восьмидесятые годы. Верно, как раз в том году, когда Марион, дочь фрау Беймер, слишком поздно вернулась, да еще с разбитой головой, началась эта история с Борисом и Штефи. Вообще-то я теннисом не увлекаюсь, мечутся, мечутся по площадке, но мы все равно смотрели, иногда часами подряд, когда эта девица из Брюля и парень из Лейма, как их называли, достигали все больших и больших высот. Фрау Шольц вскоре начала разбираться, как там у них получается с подачей и возвратом. Что такое тай-брек я лично не могла уразуметь и мне часто приходилось спрашивать. Когда проходил Уимблдон, и наш Борис одержал верх над одним из Южной Африки, а на следующий год — то же самое против чеха Лендла, которого все считали непобедимым, я прямо вся дрожала от страха за моего Борика, которому тогда всего-то и сравнялось семнадцать. Я даже молилась за него. А как он в восемьдесят девятом, когда в политике снова что-то зашевелилось, опять в Уимблдоне, против шведа Эдберга одержал победу после трех сетов, я прямо разрыдалась и моя дорогая соседка тоже.
Вот Штефи, которую фрау Шольц называла «фрой-ляйн фореханд» я так и не смогла полюбить, а ее папашу, этого налогового афериста — тем более. Но вот Борик, этот был несгибаемый, он мог показать себя дерзким, мог даже нахальным. Нам только не понравилось, что он не любит платить налоги и ради этого даже переехал в Монако. «Неужели это было так нужно?» — спрашивала фрау Шольц. А потом уже, когда и его звезда, и звезда Штефи начала клониться к закату, он даже начал рекламировать «Нутеллу». Конечно, у него все выглядело очень мило, когда он в телевизоре облизывал нож, с лукавой такой улыбочкой, но какая в этом надобность, когда он все равно заработал больше, чем может в своей жизни истратить.
Хотя нет, все это происходило уже в девяностые, а ты, моя дорогая девочка, хочешь знать, как оно все было в восьмидесятых. С «Нутеллой» мне приходилось иметь дело уже в шестидесятых, когда все наши дети требовали, чтобы им мазали на хлеб эту сладкую замазку, которая, по-моему, выглядит как сапожный крем. Спроси у своего отца, помнит ли он до сих пор, какие схватки разыгрывались у него каждый день с младшими братьями. Ну и шум у нас стоял! Почти как в этой «Линденштрассе», которая, к слову сказать, все еще не кончилась.
1986
Мы, жители Оберпфальца, как все считают, редко выходим из себя, но уж это было слишком. Сперва, значит, Вакерсдорф, где они собирались хранить эту мерзость, а потом еще на нашу голову свалился Чернобыль. До самого мая над всей Баварией висело облако. И над Франконией тоже, и мало ли где еще оно висело, только к северу поменьше. А к западу, как говорят французы, оно остановилось как раз над границей.
Ну, конечно, кто хочет, тот верует, есть даже люди, которые уповают на Святого Флориана. А у нас, в Ам-берге, судья из Гражданского суда всегда был против этой самой УПП, а если без сокращений, оно называется «Установка по переработке». Вот почему молодых ребят, которые расположились за забором этой самой установки и колотили железными палками по забору, о чем писали в газетах под заголовком «Иерихонские трубы», судья по воскресеньям обеспечивал настоящим обедом, что дало повод Бекштайну из окружного суда, который всегда был порядочной скотиной, почему и сделался впоследствии министром внутренних дел, говорить такую вот гнусность, будто «людей, подобных судье Вильгельму, надлежит уничтожать как явление». И все из-за Вакерсдорфа. Я тоже туда ходил. Но лишь когда приплыло облако из Чернобыля и нависло над Оберпфальцем и над нашим прекрасным Баварским лесом. Точнее сказать, мы отправились туда всей семьей. В моем-то возрасте, как они все говорили, мне вроде бы об этом и тревожиться нечего, но поскольку мы — это у нас такая семейная традиция — каждую осень привыкли ходить по грибы, надо было теперь проявлять бдительность, я даже так скажу: надо было бить тревогу. А раз это подлое вещество, которое называется цезий, дождь смыл с деревьев и ужасно пропитал радиоактивностью всю землю в лесу, все равно, мох или палую листву, или хвою, я тоже вдруг проснулся, взял пилу для металла и отправился к забору, а внуки все кричали мне вслед: «Уймись, дед, это не для тебя!» Может, они и правы, потому что когда я затесался среди этих молодых людей с криком: «Кухня для плутония! Кухня для плутония!», водометы, которые специально прислали господа из Регенсбурга, просто сбили меня с ног. А к воде они примешали еще какой-то раздражитель, какой-то подлый газ, хотя, конечно, он не такой страшный, как этот цезий, который приплыл к нам в облаке из Чернобыля, и стекает на наши грибы, и завис, и не уходит.
Вот почему уже позднее в Баварском лесу и в лесах, что вокруг Вакерсдорфа, проверили не только лакомый зонтик и дождевики, потому как зверье в лесу, оно ведь тоже ест всякие зеленчаки, которые не едят люди, стало быть, и зверье травится. А раз мы все равно собирались идти по грибы, нам все замерили и показали на таблицах, что каштановый гриб, который появляется только в октябре и бывает вкусный до невозможности, вобрал в себя больше всего цезия. А меньше всего цезия оказалось в опятах, оно и понятно, опята растут не на земле, а как паразиты — на древесных пнях. И навозник, а он бывает очень вкусный, пока молодой, вот и его тоже пощадило. А сильно заражены, как я до сих пор повторяю, оказались рогатики, дубовики крапчатые, сосновые рыжики, которые любят расти под молодыми елочками, и даже подберезовик, вот подосиновики, те меньше, но, к сожалению, здорово нахватались кантарелии, их еще называют лисичками. А всех больше пострадал боровик, его еще называют белый гриб, который, если его найдешь, можно смело считать милостью Божьей.
Ну, в результате вся эта история с Вакерсдорфом так ничем и не кончилась, потому что господа из атомной промышленности вполне могут осуществлять переработку во Франции, причем дешевле, чем здесь, и шума такого там не будет, как в Оберпфальце. Теперь у нас снова установилось спокойствие, и даже про Чернобыль и про чернобыльское облако никто больше не вспоминает. Но моя семья, все как один, внуки тоже, перестали ходить по грибы, что нетрудно понять, хотя, конечно, из-за этого прервалась наша семейная традиция.
Но лично я хожу до сих пор. Там, куда дети сдали меня в Дом для престарелых, кругом растет лес. Там я и собираю все, что ни найду: булочки, подосиновики, белые — прямо среди лета, а когда подойдет октябрь, даже каштановые грибы. Жарю я их в кухонной нише, для себя и для некоторых других стариков, которые уже плохо ходят. Все мы давно разменяли восьмой десяток, так что какое нам, в конце концов, дело до цезия, спрошу я вас, когда наши дни уже и без того сочтены.
1987
Ну что нам понадобилось в Калькутте? Что потянуло меня туда? Имея за спиной «Крысиху» и надоедные немецкие праздники забоя скотины, я начал теперь рисовать горы мусора, спящих на улице людей, богиню Кали, как она со стыда показывает язык, видел ворон на кучах скорлупы кокосовых орехов, видел отблеск былой империи в позеленевших развалинах и поначалу, когда все зловоние восходило к небу, просто не находил слов. И тут мне привиделся сон…
Но прежде чем увидеть сей, богатый последствиями сон, во мне зародилась мучительная ревность, ибо Уте, которая читает много и разное, покуда она, все худея и худея, терпела Калькутту, осиливала одного Фонтане за другим: в противовес индийским будням наш багаж был отягощен множеством книг. Но вот почему она читала именно его, гугенотского пруссака? Почему так страстно, под включенным вентилятором, болтливого хроникера земли Бранденбург? Почему под бенгальским небом — и вдруг Теодор Фонтане? Словом, мне привиделся сон…
Но прежде чем размотать катушку с этим сном, надлежит сказать, что я ничего, решительно ничего не имел против писателя Фонтане и его романов. Многие из его произведений сохранились у меня в памяти, как поздно прочитанные: Эффи на качелях, лодочные экскурсии по Хафелю, прогулки с госпожой Жении Трайбель по берегу Халлензее, летние досуги в Гарце… Но Уте, та знала все, речения каждого пастора, причину каждого пожара, пусть даже в огне погибло все Тангермюнде, а в «Невозвратно» пожар возымел тяжелые последствия. Даже при длительном отключении тока, под неподвижным вентилятором она продолжала читать, пока Калькутта тем временем погружалась во тьму, читала, перечитывала при свече «Детские годы» и наперекор Западной Бенгалии спасалась бегством на больверк Свинемюнде или убегала от меня по берегу Балтийского моря в Задней Померании.
И вот мне, покуда сам я лежал под сеткой от москитов, привиделся полуденный сон, нечто прохладно-северное. Из окна своего ателье в мансарде я смотрел вниз, в свой Вевельсфлетский сад, затененный плодовыми деревьями. И хотя я уже много раз излагал этот сон в различных вариантах перед различной публикой, однако забывал порой упомянуть, что деревня Вевельсфлет расположена в Шлезвиг — Голштинии на реке Штёр, являющейся притоком Эльбы. Итак, я видел во сне наш голштинский сад, в нем — усыпанное плодами грушевое дерево, под сенью которого Уте сидела за круглым столом против какого-то мужчины.