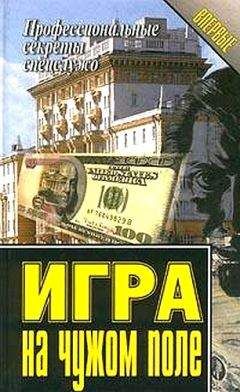Дмитрий Новиков - Рассказы
Мы приехали в поморский поселок Умбу, и Шотман с новой силой охватил нас. Нас поселили у последнего циркача Кольского полуострова, члена компартии Вити. Он действительно двадцать лет работал в московском цирке, потом вышел на пенсию и живет на родине. Витя говорил так много и быстро, что насмерть завораживал обилием слов и идей. Мы медленно ехали на машине, Витя проводил экскурсию по Умбе. «Вот это дом, в котором я жил, а это мост, с которого я упал», — Витин монолог был нескончаемым. Иногда я нажимал сильнее на газ, чтобы побыстрее покончить с этим могучим потоком, но тогда и Витя начинал говорить гораздо быстрее. «Шотман», — одновременно подумали мы с другом, чувствуя, как туманится сознание. Наконец наступил вечер. После сдобренного обильными витиными рассказами ужина я сломался. Тысяча сто километров за рулем дали себя знать. Заснул накрепко. Друг же мой с Витей целую ночь еще ходили по улицам в поисках умбийской любви, пока не осознали, что главный трюк в самбо — не получить в умбу.
На следующее утро мы вырвались от Вити и добрались, наконец, до жирной реки Варзуги. Там поймали по первой в жизни семжине. Там ощутили вкус победы над огромной умной рыбой. Там возбудились так, что не спали сутки, и мимо текла медленная река Варзуга, а майский ночной воздух звенел, наполненный солнцем полярного дня и прозрачной пустотой. Какая–то невиданная сила передалась нам от убитых рыб, и вот уже мы, не сомкнув глаз, часами вещали о великом Шотмане, о жизненной ярости, о «новом реализме». А собравшиеся вокруг нас рыбаки, съехавшиеся сюда со всей страны, завороженно слушали эти бесконечные рассказы и смеялись в нужных местах, а в других — плакали. Это была ночь имени Шотмана.
Где здесь реализм, новый ли он — я не знаю. Но то, что через благотворящую природу; через поморскую речь, которую в других местах отыщешь лишь в далевском словаре; через королеву–рыбу и жирную реку удалось прикоснуться к какому–то древнему, юному, вечно живому мифу — несомненно. И может быть, поиск, отыскание, работа с мифом и есть главные принципы «нового реализма»?
БЕЛОМОР
Я все–таки бросил курить — и многие месяцы радовался. И скрывал, что хочется. Говорил всем, тянущим нелегкое бремя, — ну вот, я же смог. А на языке, в голове, внутренностях, чреве, слюнных железах было одно слово — дым. Который сладок и приятен. Который все же навсегда. Который память. Вкус. И боль воспоминаний о танцах радостных и безнадежных победах.
Когда мнешь непослушными разуму пальцами тугую папиросу, когда из нее сыплется мелкая труха, несмотря на все усилия скрутки и прижима, попадающая на язык, понимаешь — ты опять попался. В который раз.
И с облегчением и веселым отчаяньем произносишь слово — «Беломор».
Я люблю эти первые минуты, которых ждешь целый год, трепещешь ими, боишься, а наступят они — и вроде бы никаких резких восторгов сразу. Обыденно все. Море такое, островами загороженное от широкого взгляда. Запах еле–еле слышимый. Не морем даже пахнет, а мокрой древесиной от бревен причала. И немного — вон тем фукусом, на берег выброшенным. И дымом, курящимся из топящихся баинок. И рыбой чуть–чуть. И счастьем. Так стоишь на причале, смотришь невольно в светлую воду, в глубь ее. И там тоже все обычно — мольга какая–то снует, водоросли колышутся. Ну и что — морская звезда. И вдруг замечаешь, как из тени, длинной от низкого ночного солнца, выплывает ярко–бордовая огромная медуза и колышется величаво, никуда не торопясь. И после, от цвета ли этого неистового, на севере невозможного, от запаха ли подспудного, вкрадчивого, как первое женское прикосновение, чувствуешь внезапно, что душа твоя уже распахнута до горизонтов, что, не заметив как, ты уже попался в нежные сети, что в глазах твоих слезы, а в голове гулкость и пустота, и только сердце восторженно стучит торжественный марш — здравствуй!!!
В такие минуты лучше притвориться суровым, грубым, жаждущим выпить и покурить серьезных папирос. Поэтому сразу на заброшенные доски — газету, на нее хлеб ломтями, сало, луковицу хрусткую, бутылку. И делаешь вид, что проголодался, что жить не можешь без водки, что все неважно остальное. И крепкий дым–горлодер на все эти запахи — чтобы не опьянеть, не сойти с ума от них. Только почему–то не клеятся разговоры, а если и вырвется фраза, то в конце обязательно прозвучит какой–нибудь сдержанный вопль сдавленного восторга. И еще — хочется смеяться. Радоваться хочется, что живой, что все вокруг живые, что соленая кровь в жилах сродни соленой воде под тобой. Вот в этот момент мужик местный в телогрейке и подошел на катере. Слово за слово, его угостили, сами выпили, про путь до Керети он рассказал:
— Старика Савина найдите. Он там все знает.
— Как правильно — Савин или Саввин? — я редко умные вещи могу спросить, все на каких–то ассоциациях ненужных, полувздохах.
Мужик заинтересовался:
— Одно «в» вроде. А чего спрашиваешь, знаешь кого?
— Да нет, глупости. Подумалось чего–то — Савин, Саввин, авва отче, чашу мимо пронеси. И прочие радости.
Мужик вдруг оказался Ромой, старшим научным сотрудником с биостанции на мысе Картеш. И официально заявил об этом. И мы еще выпили. И потом еще немного. И так увлечены были разговором, что позже лишь заметили — на соседнем причале сидит женщина одинокая. Сидит, вся в черном. Нестарая еще. Неподвижная. Вдруг вспомнилось, что подъехали только, два часа назад, она так же сидела, в такой же позе сгорбленной. Вот и спросили посреди дыханий и восторгов у нового друга — что сидит так? Он посерьезнел сразу:
— Мужа море вчера взяло. Нырнул после бани — и с концами. До сих пор не нашли.
Ветерок зябкий с севера подул. Засобирались мы. С Ромой попрощались благодарно, в машину сели. И последний взгляд — назад, на черную женщину, на Белое море.
На широком косогоре, у самого устья бурливой Керети раскинулась деревня Кереть, нежилая. Раскинулась и лежит. Лежат на земле останки домов, еле угадываемые уже в высокой густой траве, разнузданно расцвеченной желтыми, синими, белыми пятнами роскошных луговых цветов. Лежат на погосте старые поморские кресты, сквозь белесое древнее дерево которых проросла уже многолетняя брусника. Лежит тихо, незаметно фундамент большой церкви, что раньше гордой белой птицей, вот–вот готовой взлететь, окрыляла всю округу восторгом светлой радости. Неясными, размытыми террасами лежат бывшие улицы — верхняя, нижняя, средняя. Внизу синеет равнодушное Белое море. На том берегу залива развалились останки судоверфи. Над всем этим носятся ласточки.
Мы сидим на поляне у самой реки. Порог уже морской, в самом море вода кипит и шумит так, что приходится кричать. У нас костер, палатка, сумки брошены рядом — успеется. Рядом с костром мангал, в нем уютно жарятся шашлыки. Запах стоит такой, что по всей округе ордами дуреют комары. Кусают нас. Понятно — живое мясо слаще узкому носу, печеное — горячо.
Уже хорошо принято на грудь. Без этого никак. Иначе боль, которая радость, которая счастье, которая беда, разорвет на мелкие ошметья. Вот и стягиваем голову и торс обручами спирта. Ноги остаются свободными и бродят везде. Но в основном неподалеку — держит запах. Кругом безлюдье, стрекотание цикад. «Сам ты Цыкад, иди вон за дровами!»
По дороге, что идет от деревни к рыбзаводовскому домику невдалеке, шествуют двое. Один помоложе, в камуфляже, с независимым видом. Другой — плюгавый дедок в толстых очках и кожаной кепке набекрень. Идут неспешно. Видно — нюхают.
— Мужики, давайте к нам, — восторг переполняет, хочется кого–нибудь обнять.
Те осторожничают:
— Нет, ребята, спасибо, мы спешим.
Медленно спешат, не торопясь.
— Да ладно, чего вы. Расскажете нам, как отсюда на Летние озера попасть.
Подходят. Совсем медленно. На лицах борьба. Рядом с едой солидно восседает белая канистра, почти под завязку наполненная кристально–прозрачной жидкостью. «Спирт медицинский этиловый» — мужикам знакома и приятна надпись. А доктору, подарившей канистру, знакомы мужики. Снаружи, изнутри. Она — прозектор.
Вот нет нигде уже достоинства и чести. Даже слова почти забыты. На помойках в городах роются крепкие парни с опухшими лицами. По телевизору маслянисто пластают правдивые слова люди с тревожно бегающими глазками. Даже поэты норовят напиться на халяву, а уж потом читать стихи. Даже у приличных женщин пальцы на руках постоянно шевелятся, словно нажимая кнопки невидимого калькулятора. Нигде нет достоинства и чести. А здесь — есть. Медленно–медленно подходят мужики. Много рассказывают про недавний ужин. Сопротивляются, но не уходят. Наконец сдаются:
— А вы сами откуда будете?
— Мы почти местные, из Петрозаводска, — отвечаю за всех, хотя Горчев — сутулый, горбоносый, в маленьких очочках, никак не тянет ни на русского, ни на карела.
— А, тогда ладно. Хорошо, что не москвичи. Те наглые — сразу рыбы требуют. А так ладно — свои ребята. Присядем начуток.