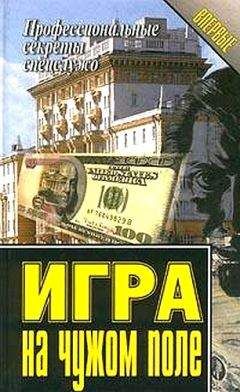Дмитрий Новиков - Рассказы
Когда нашлась свободная, усталыми телами не занятая комната, то было радостно увидеть на двери ее задвижку изнутри. Словно дым от костра в морозное небо унесся хмель. Словно газетные словеса обрушилась с души одежда. А дощатые стены, обитые светлой вагонкой, оградили малый мир, где рождалась надежда. Я помнил сначала, что это просто комната в доме, а потом забыл. Потом она стала вагоном, стучащим ритмичное «алиллуйя», а потом лодкой, где за смоляным бортом мерно дышала нежность, а еще потом теплой поляной, окруженной не знающими своей участи деревьями, и по телу неистовыми толпами носились отважные мураши. И рыжим золотом крытое, раздраконенно распятое тело Лисы, и всегдашняя улыбка, даже сквозь предчувствия боль, улыбка в глазах. А еще позже нестерпимо горячая, сладкая горечь в паху, и нежность шеи, переходящей в стриженый колкий затылок под руками, и неправильность так, и ее отчаянная методичность. И рождение надежды, и боль. «Похоже на горячую вкусную устрицу, — смеялась женским знанием, — вот мы и в Париже».
Когда в вагоне оказалось обычное домашнее окно, когда стояли рядом и смотрели на звезды, теряющие свою злую колкость перед утренней зарей, то сказала: «Видишь даббл ю большую. Это значит We». Сказала уверенно, даже как–то властно. А мне впервые не поверилось ей. Я не любил обрядов.
Утром вяло прибирались, наводили порядки. Долго искали Ширли, от которой все–таки вырвался вчера вконец замученный Тигр. Наконец нашли спящей в горячей еще парилке. Невероятные, крупные ноги ее были погружены в таз с холодной водой. На носу и обнаженных плечах тускло блестели мутные капли печального женского пота. Утро было смурным и нелегким. А посреди давешнего снежного поля сиротски чернел вплавившимися в снег обгорелыми сучьями брошенный, мертвый костер.
Когда через несколько дней провожали их на вокзале практически навсегда, то собралось много пристойного народа — ректорат и деканат в полных своих составах, отличники различных подготовок с таящими многие надежды мамами и папами, прочие лица. Говорили прощальные речи, украдкой выбрасывая в прошлое ненужные воспоминания. Открыто, в голос рыдала возле вагона недавно еще облюбованная банни, в недалеком будущем, впрочем, американская гражданка. Смотрела сквозь грязное стекло Лиса и обещала писать письма. А осмелевший, сил набравшийся и напоенный на посошок Джонни–мальчик вдруг высунулся из дверей, вскинул руку в латиноамериканском приветствии и с чувством выкрикнул в плотные уже сумерки: «Звездато!»
Нет лучше места для раздумий, чем железная дорога. Тоже и для наблюдений. Опять же над собой. Общая анестезия называется наркоз. Он удивлялся своему спокойствию, своей наблюдательности за проносящейся рядом и за окном жизнью. Рядом — наконец угомонилась престарелая ветреница. За окном проносились ярко–белые, глаза слепящие поля почему–то Северной Дакоты. В голове крутилась строчка давно почившего Моррисона: «День был ярок и полон боли». В памяти смешно таились многочисленные письма в количестве двух, где она писала о невозможности жить без него, о вселенском, космоподобном одиночестве, о прочих женских штучках. Он тогда выдержал большую паузу и поехал. Пауза была заполнена попытками чувственного, любовного осознания своей родовой принадлежности — «русский». Ведь слово это начиналось мощным, таранным, протуберанистым «ру». Заканчивалось, как никакое другое национальную принадлежность обозначающее — заунывным и безнадежным «ий», протяжным как отсроченная страсть. В середине, неизвестно откуда взялось два «с». Он долго не мог понять — откуда, потом в библии встретил, как господь сказал Авраму: «Отныне будешь Авраам», и принял это. Вообще же слово это прежде всего значило «любовь». Любовь ко всему — к лисам, зайцам, снегам, заунывности, елкам и палкам, прочим деревьям, многочисленным и беззащитным детишкам, земле, унавоженной кровью и воплями предыдущих. Любовь номер шестнадцать, восемнадцать, сорок два и восемьсот двадцать три.
Любовь, вооруженную ножами и вилками, жадную, жалкую, беспощадную. Любовь, раздвигающую ноги за статус замужности и тут же, в самый этот миг, бескорыстную как сладкий летний дождь. И когда понял все это — поехал посмотреть. Потому что очень уж много признаков было в глазах, лице, в неистово мягких губах, в солнечно–рыжем, пушистом имени, в щиколотках и запястьях, в фамилии, на слабых ужас наводящей, в тайной примеси индейской крови, в слюнявых, жарких, бесполезных снах. Поехал посмотреть — может ли быть такое. Эдакое. Бывает ли на свете. Не простой ли он жалкий дример. Позвонил предварительно, уточниться. Благо время прошло какое–то смешное. Случайно, сказал, буду мимо Дакоты вашей северной проезжать, мог бы, сказал. Обязательно, ответила трубка, всенепременнейше. Точно хочешь — состорожничал, сильно волей напрягся, чтоб не кинуться сразу. Абсолютно — трубка сказала. Вот тогда и поехал, за семь морей, за восемь гор, за цену большую, неважную. Только блюзом себя всю дорогу тешил, непонятно зачем, утихомириться чтоб предварительно, ведь не сразу же счастье полной кадушкой:
— Послушай, братка, совет —
Да не руби все сплеча.
Пусть все течет как течет,
Была бы кровь и моча.
А мы все спим, мы видим сны в ожиданьи весны —
Лишь блюз от бога, все прочее от сатаны*.
Городок был небольшим, по крыши занесенным мягким снегом. На станции он был единственным, пожелавшим посетить его. К поезду она опоздала, приехала позже. Целоваться не стали, сразу поехали домой. Там, на большой кровати, посреди мягкого, неприятного хаоса подушек, спал какой–то американский мужчина. Среднего роста, плечистый, некрепкий.
Тот, который упал как лимонно–лунный свет на голову после долгих облачных ночей, спросил, не бойфренд ли это, не мальчик ли друг. Мальчик, мальчик, точно, полный, искренний друг — ответила вежливо. Ничего не понимаю, сказал тот, который упал как лимонно–лунный свет и так далее, — ничего. Понимаю, что прошло время, угасли порывистые чувства, поросло быльем былое, прошлое стало бельем неглаженым, гадким, стерильным. Но зачем, пушистая, ты сказала — приезжай? Зачем позвала, бывшая сладкая?
Женщина нахмурилась озабоченно.
«Иначе было бы невежливо», — сказала.
Поморские сказы им. Шотмана, или Мифы нового реализма
Судьба Бориса Шергина давно мучила меня. Великий писатель и собиратель, донесший до нас поморскую говурю — старый русский язык, что сладок словно мед для измученного корявой современностью слуха, он был кто? Реалист, модернист, сказочник, интерпретатор? Наверное, сказочный реалист. И язык этот давался ему, тек весело и свободно, норовисто бурлил и весело шутил в его сказах и притчах. Но потом, стараясь преодолеть жизненные беды, писатель вынужденно (думаю, так) пытался написать все тем же языком рассказы о новых героях — о Ленине, о Сталине etc. И, несмотря на все ухищрения и старые приемы, язык ушел. Он выскользнул сквозь пальцы, не принимая ложь, а в руках осталась сухая мертвая оболочка. Не помог ни реализм, ни сказочность, герои не были героями и не рождали мифа. В чем причина трагедии? Возможно, в древней истине, что настоящее искусство не прощает лжи. Старый реализм этим частенько грешил.
Теперь, после этого вступления, я расскажу две истории про выдру. Вообще, в хитросплетениях психологических нюансов деление поведенческих мотиваций современного человека на черное и белое, изрядно затуманенное декларируемой повсеместно адаптивностью, для меня порой радостно и необходимо. Так вот, одна из историй про выдру будет чудесная, а другая — отвратительная.
Одна молодая привлекательная женщина питала слабость к отставным военным. Тут были и воспоминания о детстве, проведенном в военном городке бравых летчиков, и приязнь к простоте суждений, и любование общей подтянутостью. Поэтому, когда в купе поезда дальнего следования ее попутчиком оказался чудесный полковник с пышными усами и седеющим ежиком оправданной прически, симпатия не заставила себя ждать долго. Нет–нет, ни о каком интиме речи быть не могло, молодую женщину сопровождал ее пожилой отец, да и нрава она была достойного, то есть строгого. Но симпатии приказать никто не мог, да и должен не был.
Полковник оказался приятным собеседником, много видел и поэтому знал, обладал острым наблюдательным взглядом и бойким языком. Ко всему прочему он был еще и заядлым охотником, а природа — одно из немногих явлений в современном нам мире, которое не дает окончательно скиснуть душе. Молодую женщину потряс именно охотничий рассказ собеседника. Однажды тот охотился на выдру и метким выстрелом ранил ее. Выдра спряталась. Под какие–то коряги. А наш герой, умудренный значительным жизненным опытом, знал — живое существо перед смертью очень боится остаться одно. Ему обязательно нужен кто–нибудь подобный, тогда легче. Поэтому и солдат погибших зачастую находят в воронках и других укрытиях по двое, тесно прижавшихся друг к другу.