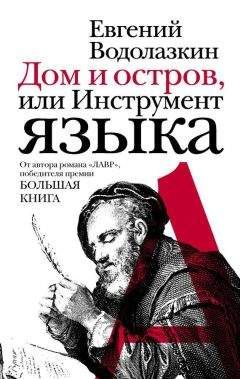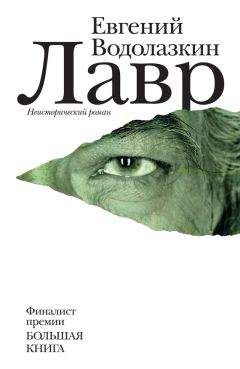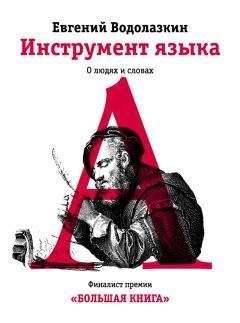Чудо как предчувствие. Современные писатели о невероятном, простом, удивительном (сборник) - Водолазкин Евгений Германович
Во время реформации XVII века церковь сносят, и останки короля считаются навсегда утерянными. Впрочем, остаются письменные свидетельства, что где-то в районе алтаря Ричард и был захоронен. Со временем на месте церкви разбивают сад, затем строят викторианский дом, а уже в XX веке организуют автостоянку. В 2012 году в центре Лестера начинаются археологические раскопки. Через 6 часов 35 минут ученым удается обнаружить труп со связанными руками и признаками сильного сколиоза. На теле скелета насчитывают до десяти колото-резаных ран. Чтобы избавиться от последних сомнений, ищут по всему миру и находят оставшихся потомков короля; проводят генетическую экспертизу. Их митохондриальные гаплогруппы полностью совпадают.
И вот 26 марта 2015 года тело Ричарда III Плантагенета было торжественно перезахоронено в кафедральном соборе города Лестера. На церемонии присутствовал Бенедикт Камбербэтч, который внезапно тоже оказался дальним родственником короля. Он прочитал по случаю стихотворение Кэрол Энн Даффи «Ричард». Последний король Англии, убитый на поле боя, спустя пять веков наконец упокоился с миром, а через год футбольный клуб «Лестер Сити» впервые в своей истории оформил невероятное чемпионство. Назовем это последней чудесной милостью короля.
Но есть еще и другое чудо, свободное, как пел Стинг, от «священной геометрии случая», от тайных знаний алхимии и тринософии, от ошеломляющих достижений науки.
Моей дочери полтора года, а в это же время два года назад мы с женой завели приложение для будущих родителей. Оно отсчитывало недели и дни до родов, сообщало, какой новый орган у ребенка формируется, какие части тела вырисовываются. Все это было видно на трехмерной модели. В мутной взвеси плавает огромный зародыш. Две черные ягоды вместо глаз. Гениальный выпуклый лоб, как у дельфина. Короткие, как у муми-троллей, ручки. Сквозь матовые желатиновые стенки просвечивают тонкие веточки артерий, дальше — темное полесье будущих ребер. Когда фигурку приближаешь, то становится слышен частый настырный бой сердца. А еще через несколько месяцев на скрининге уже можно было разглядеть ее лицо — изображение было каким-то жидким, изменчивым, и казалось, что кто-то гадает на горячем воске. Из этой подвижной магмы выявлялась то шея, то губы, глаза, подбородок. И моя будущая дочь словно подпирала рукой щечку, как скучающий школьник в ожидании перемены. И вот она появилась на свет, заняла свое собственное, отведенное только для нее место. Она осваивает мир, которому, надеюсь, научится доверять, вопреки горю и страданиям, которыми он переполнен. Потому что зла хоть и больше, но оно слабее добра. И эту истину принять и усвоить очень тяжело. И мне кажется, что это меня теперь заново вынашивают, что это я дозреваю, довырисовываюсь, довеществляюсь, как будто это во мне недоразвился какой-то очень важный орган, без которого, как оказалось, жизнь не была полноценной. И я уже не знаю, как я без этого органа жил. И жил ли?
Татьяна Толстая
Струзер
Что ты вынесешь из горящего дома? Что ты вывезешь из ледяного, осажденного города?
30 ноября 1941 года. Ленинград. Еще не вечер, но на улице — темно, и во всех окнах затемнения, и фонари этой осенью, конечно, не горят. И транспорт не ходит.
Два пожилых человека вышли из дома 73/75 на Кировском (некогда Каменноостровском) проспекте, пересекли неширокий двор-курдонёр, оглянулись в последний раз на еле различимые при свете звезд окна своей квартиры — суждено ли воротиться? — завернули направо за угол и побрели на север.
Он высокого роста, в тяжелой шубе, с небольшим чемоданчиком — большой взять не разрешили, ведь самолет крошечный; она маленькая, худенькая, ему по плечо. Она пытается отобрать у него чемоданчик:
— Миша, ну дай я понесу… Ну нельзя тебе…
Но он только качает головой:
— Все хорошо, Танюша. Эта ноша не тянет.
Стемнело, и с Невы дует сырым морозом. Пройти вдоль Лопухинского сада, переименованного новыми властями в садик Дзержинского. Взойти на мост через Малую Невку. Дальше будет Каменный остров, и там уже нет асфальта, а торцовые мостовые размыло наводнением еще в 24-м году, и теперь там только булыжник и скованная морозом вздыбленная земля — колдобины и рытвины. Были кое-где деревянные настилы, но ленинградцы растащили их на растопку. Топят и заборами, и книгами. Горит и синий Флобер с золотым тиснением, и маленький зеленый Мериме.
Это мои дедушка и бабушка Лозинские. И им надо пройти по темному и бесснежному городу, по промерзлой земле, по рытвинам и кочкам шесть километров — до Комендантского аэродрома, до самолета, который вывезет их из блокадного города на Большую землю.
Они еще не старые: ему 55, она годом младше его. Почему они идут с таким трудом? Дойдут ли?
Михаил Леонидович Лозинский, мой дедушка по матери, перевел «Божественную комедию» Данте: в 1936 году «Ад», в 1939–40-м — «Чистилище» и за месяц до войны закончил писать примечания к нему, составившие целый том. А потом оставалось перевести «Рай» — и тут началась война.
Это были несравненные, никем не превзойденные переводы. Академик И. И. Толстой писал Лозинскому: «Чтобы передать текст Данте так, как передали его Вы, надо не только знать в совершенстве итальянский язык, ему современный, и историческую обстановку, но надо, чтобы в человеке звучали струны самой высокой и чистой, подлинной поэзии».
Сам Лозинский позже говорил в интервью: «Я отдал семь лет жизни на то, чтобы сильно почтить память Данте, и счастлив, что довел дело до конца. Три части, сто песней, 14 233 стиха — это немало… Чем глубже я вникал в „Божественную комедию“, тем больше преклонялся перед ее величием. В мировой литературе она высится как горный кряж, ничем не заслоненный».
Дедушка был тяжело болен. Помимо эмфиземы легких, у него была акромегалия — заболевание гипофиза, при котором увеличиваются в размерах кисти рук, стопы ног и черты лица оплывают, словно бы скованные маской. И каждый день очень сильно болит голова. Спасался он от головной боли цитрамоном, но я не знаю, можно ли было раздобыть цитрамон в блокадном Ленинграде в ноябре 41-го года?
А еда, где им было раздобыть еду?.. Только что, 20 ноября, была установлена самая минимальная за всю блокаду норма — смертельная норма — 125 грамм. Рабочим полагалось, так уж и быть, 250 грамм хлеба, всем остальным — 125.
Лозинские были «всеми остальными». Им еще повезло: Михаил Леонидович был еще и членом Союза писателей, так что он, скорее всего, получал какой-то дополнительный паек или был прикреплен к какой-то столовой. Потому что на 125 грамм хлеба выжить было нельзя. К февралю умерла половина города, миллион человек.
Я смотрю туда, в тот день, в тот темный день, случившийся за десять лет до моего рождения, с такой тоской и тревогой, словно он не миновал, а еще только предстоит. Я должна знать, как все это было, и с волнением и благодарностью ищу и нахожу в интернете почти все, что мне нужно: и температуру — ноль градусов, страшный ленинградский ноль, погода, при которой происходит большинство обморожений, как нас учили на уроках гражданской обороны, и количество осадков — нет осадков. Есть звонкая промерзшая земля. А вот 20 ноября, в день, когда сократили норму выдачи хлеба, было 11 градусов мороза. А накануне того — минус 14, и все это без снега. Наверно, Нева замерзла. Наступление темноты — 16:48. Я думаю, они вышли засветло, но пока шли, стемнело.
Зато луна в тот день хоть как-то освещала путь, было три четверти от полной луны. А небо затянуто тучами? Не пишут.
Перейти Малую Невку, Каменный остров, Большую Невку и дальше, дальше. Черную речку перейти, по правую руку будет место дуэли Пушкина, и нельзя не обернуться на него, нельзя не постоять: в темноте памятник едва различим, но мы другими глазами смотрим, так что мы всё видим. Постояли, передохнули — идем дальше.
Им разрешили взять с собой только самое необходимое. А что есть самое необходимое для переводчика Данте?