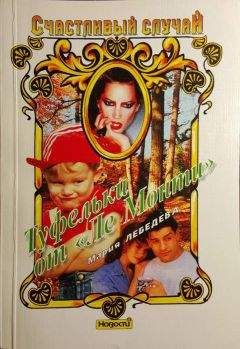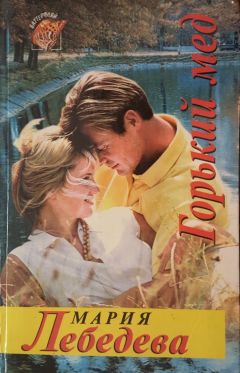Там темно - Лебедева Мария
Или всё же наоборот?
В какой-то момент мы стали как сообщающиеся сосуды: спроси кто, где моя рука, где его – не смогла бы ответить наверняка, и его / мой озноб резко сменился жаром, и его / мои обмякшие руки налились тяжестью, когда я наконец поняла: из двух вариантов он не предпочитает побег. Навязанный страх породил в нём злобу, и непонятно, что было бы дальше, если б он не заметил что-то над моей головой и не сделал бы шага назад.
Воздух вмиг ожил – поднявшийся ветер откинул с глаз чёлку, взметнулись к потолку мёртвые бабочки, всполошилась пёстрая птичья стая, плотное облако из мельтешащих нестройно крыльев и клювов.
Луч падает на один глаз, и тот мигом теряет цвет, в упор таращится голым зрачком, как гвоздём прибивает к месту.
Звякнув, нож выпал.
Кое-как прорвавшись сквозь стену из перьев, я споткнулась о какой-то кирпич, рассекла кожу на колене, поднялась, опёршись на ладони – на них остался песок, – и поспешила оттуда прочь.
…следом вышла вальяжно большая белая птица.
– Что ты такое? – спросила я.
Птица хитро сощурилась, и я протянула к ней руки.
Отряхнув их сперва от песка. Она чистая, эта вот птица.
Никто ведь не гнался, но Яся бежала прочь, свернула за угол, всё бежала, бежала, не обращая внимания на саднившую боль в ноге и возмущение сидевшей за пазухой птицы, которую от быстрого нервного бега подбрасывало вверх и вниз.
Под ногу попался камень.
Яся едва не споткнулась вновь. Остановилась, взяла камень и, не раздумывая, запустила в пустое холодное небо – и смотрела долго, ждала, пока упадёт. Уже и шея затекла, и перед глазами, напряжённо пялящимися в небеса, замелькали огненные пятна.
Камень так и не упал.
Соседка, губы поджав, косится на разбитую коленку, видит грязные разводы на бледном лице – провезла ненароком рукой, на вздувшуюся за пазухой куртку. Соседка пытается вызвать очищающее чувство стыда.
– В церкви была, – учтиво кивает ей Яся и поднимается по лестнице с видом, будто за ней тянется королевский шлейф – да если бы и тянулся, показался б соседке хвостом.
Соседка подумала, что девчонка заигралась для своих лет. И пошла обсудить со знакомой: вот Яська-то с прибабахом, куда смотрит её-то мамаша. Оно и понятно, что отец сюда больше не ездит. Наездился, значит. Он ещё молодой – точно будут нормальные дети.
Яся забыла о соседке сразу, как та исчезла с глаз.
Ничего не менялось.
Разве что ветер.
Он словно бы дул во всех направлениях сразу. Быстрый, порывистый, прекращался столь же резко, как и начинался: будто кто-то наверху ослаблял слегка поводок, а затем, вдоволь натешившись испугом прохожих, дёргал обратно – «Ветер, к ноге!».
А так – всё по-старому.
Кроме вот птиц.
Число их, крылатых, не поддаётся подсчёту. То ли они слетелись сюда со всех окрестностей, то ли вдруг расплодились за очень короткий срок. Как бы то ни было, сомнению не подлежало: птиц стало больше.
Мужчина вытянул руку, чтобы остановить маршрутку, – на ладонь мгновенно сел голубь. От неожиданности мужчина резко ладонь опустил. Потерявший опору голубь завис на мгновение в воздухе, а после недоумённо похлопал крыльями и улетел.
Другой голубь призывно урчал, пушился, пытался привлечь голубку. Он так пыжился-надувался, что женщина, проходя мимо, вспомнила что-то своё, наболевшее, остановилась, крикнула тонко: «Ну-ка отстань от неё!» и страшно затопала на него ногами. Голубь ушёл токовать собственной тени, будто того и желал. Тень не поддавалась соблазну, но и не убегала.
Малыш хотел уточку покормить. Оба они – и ребёнок, и птица – переваливаются на непрочных ногах. Мама снимает семейную хронику. Малыш смеётся: как он рад найти хоть кого-то размером поменьше себя. Никто не замечает, что смех отдаётся всё более слышным эхом, и со стороны мамы, едва не сбив её с ног, несутся к ребёнку хохочущие утки, и нет этим уткам числа. Видео стало занятней, но мама так не считает.
То и дело за завтраком Кира ощущала на себе чей-то взгляд и, повернув голову, замечала по ту сторону окна то глуповатую физиономию голубя, то бесцветные галочьи глаза.
О крышу стукается камень – тоже, должно быть, повинны птицы.
А кроме – ничего не изменилось.
Город выглядел как прежде – никак. Фальшфасады натянуты на дома. Там, под тканью, они рассыпаются в прах. Высотки не пронзали небеса, и не было старинных особняков, на которые лепились бы статуи, как опята. Никаких крайностей, никаких странностей.
Снаружи.
Наугад берём окно и заглядываем в него. Выбор случаен, просто пальцем в небо, прямо вот ногтем в его сонную серость, едва ли от этого небо прорвётся дождем.
Выбор случаен, ага.
Это обман. Конечно же, не наугад. То, в какое окно мы заглянем, заранее предрешено, написано в Книге судеб. Почему? Да просто ведь…
…сколько ни тычь пальцем в небо – всё равно попадёшь в чьего-нибудь бога.
Правда, здесь, казалось, остались лишь алтари.
Эта комната как музей. Кира выучилась не шуметь. Уже не было смысла так делать, но Кира – музейная тень.
Они давно уж все вместе не жили, и возвращаться сюда было как-то не по себе, квартира усохла и сжалась, и обои почему-то были те же, и всё остальное было ровно то же, и от этого захватывало чувство, что не до конца понимаешь, сколько сейчас тебе лет – и вот-вот встретишься в коридоре с собственным призраком. Хотя бы и потому, что на косяке двери отмечен давнишний рост – и последний замер подписан «Кира 7». В среднюю школу она пойдёт не из этого дома, но измерять перестанут пораньше, словно бы запрещая расти.
Родителям-то чего. Они как были, так есть, застыли в свой ипостаси. Не они за последний десяток лет полностью обновили личину; кто-то, возможно желавший добра, взял и кинул в огонь кожицу лягушачью, обратно не повернёшь, теперь до смерти шляйся царевной. Быть ребёнком и вырасти – в самом этом факте было что-то немыслимое, дикое, хоть от чёрточки с подписью «7» до совершенно взрослого тела, подпиравшего дверной косяк, была ещё парочка вышедших Кириных версий. О них лучше не вспоминать. Есть последнее обновление, его и считаем исконным.
Первое время мама упорно напрашивалась в гости – инспектировать холодильник, разузнать, как там гладятся простыни, протирается вовремя пыль, не в свинарнике ли дочь живёт. Требовала себе копию ключа. Отказ сочла за укор, бушевала с неделю, потом позабыла, бросила «живи ты как знаешь» (будто знаешь, как надо жить). Вздыхала, что теперь Кира отдельно. За каждый день, что они проживали врозь, обострялось всё то, что их с мамой так различало: пока были вместе – пообтёрлось, сточилось, едва разлучились – опять наросло; Кире было фоново стыдно, но с этим стыдом она давно научилась существовать. Даже ладить.
Внезапно сумев дать отпор, она в ту ночь растянулась на морщинистых простынях и задумалась: для чего их вообще надо гладить? И ещё подумалось, как будто извне, словно вновь кем-то посторонним: надо же, прямо как взрослая. Никак не выходило себе объяснить, откуда бралось это «как», потому что взрослая – Кира, и зеркало вторило ей, и память услужливо предъявляла, что дети – это другие.
Здесь всё остаётся нетронутым вот уже много дней: висящий на спинке стула пиджак, незаправленная постель, ткань на зеркале («Обязательно нужно завесить!» – повторяла тогда мама, и дала свой палантин, и потом не то что забыла – не захотела забрать, как будто желая остаться здесь хоть палантином), чашка с тёмным от чая нутром. Края этой чашки и ей подобных, фигурно изогнутые, с золотинкой, как будто резали губы, и Кира вечно боялась ненароком оттяпать кусок. Ей казалось, что стоит забыться – и раздастся противный хруст, и станет во рту всё солёным-солёным. Но чашки не разбились, не потрескались, не понадкусались.
Они оказались покрепче, чем их предыдущий хозяин.