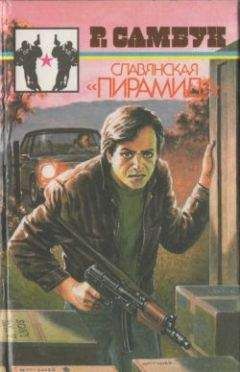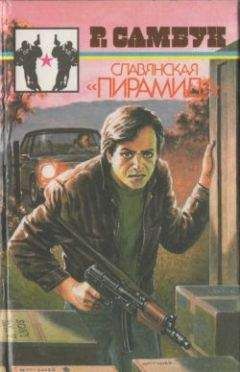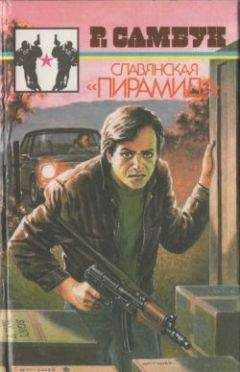Феликс убил Лару - Липскеров Дмитрий Михайлович
Многое знал Моисеич об этой жизни, имел хорошее образование, как религиозное, так и светское – школьное, но то, что человеческая моча неспособна отпугивать хищное зверье, ведать не ведал. Как говорится, и на старуху…
Но дело не в отсутствии знания, а скорее в вере. Любая вера, даже граничащая с идиотизмом, лучше глухого темного безверия. За всю жизнь путешествий по миру Фельдман никогда не был подвергнут атакам хищников, только вера приносила ему счастье, а люди – почти всегда зло.
Абрам наломал елового лапника, уложил его как толстый матрас, помолился Всевышнему, перекусил салом из жира бараньего курдюка и улегся спать, натянув на самые уши бейсболку с эмблемой «NBA». И снилась ему юная Рахиль, которой он в жизни никогда не видал, лишь образ создал в воображении. Но мироздание, ответственное за наши сны, рисовала Абраму полотно Рубенса, похожее на «Союз Земли и Воды», где Водой был он сам, а Землей – юная Рахиль, олицетворяющая собой богиню плодородия. Фемина, как и на картине живописца, явилась Моисеичу совершенно обнаженной, более юной и более трепетной. Она не глядела на Нептуна и оттого казалась вовсе непорочной, а нагота являла собой не бесстыдство, а…
Абрам Фельдман непроизвольно изверг семя в одежду, тотчас проснулся и, осознав весь ужас произошедшего, вскочил и побежал по лесу словно заяц с дробиной в заду. Долго бежал вприпрыжку, сердце чуть не загнал, пока не наткнулся на озерцо или болотину, вода которой поросла ряской, мгновенно разделся догола и, бросив сюртук, нательную рубаху, штаны и исподнее в воду, туда же кипу и бейсболку, сам сиганул следом, дабы совершить избавление от нечистоты.
Надо сказать, что с Моисеичем такая коллизия случилась не впервые, бывало, это и в юношестве, тогда мать просто забирала одежду на стирку. А в более позднем времени свою чистоту Абрам терял только при ночных встречах с Рахиль.
– Жениться вам надо, мой дорогой! – нежно указывал в Михайловске Исаак Исаакович Блюмин, последний друг-еврей. – Зайдите-ка вы рав Фельдман к Фире, к Эсфирь Михайловне на дом, которая в Кшиштофе проживает – ну вы знаете ее сами, полистайте альбомчики, там многие девы с фотографий залюбуются вашими глазами и захотят с вами под ручку стоять под Хупой1. А там – девчонки и мальчишки, а также их родители!..
– Так вы что, ребе, и пионером были?
– Что вы, уважаемый Абрам Моисеевич! Просто был грех, сбегал со школы в кино, чтобы посмотреть киножурнал «Хочу все знать». Там, знаете ли, детям про науку доступно. Очень я хотел быть конструктором батискафов, чтобы самому поглазеть на дно морское.
– Лучше все же глядеть в небо! – поддерживал беседу Фельдман. – Вверх!
– Это точно! Смотрите в небо, – подтвердил рав Блюмин. – И зайдите в Кшиштофе к Фире. К Фире!
Сколько раз он ни был у свахи, сколь часто ни перелистовал ламинированные страницы с фотографиями еврейских невест, какие красавицы ни были в том альбоме, какие наследницы несметных состояний ни взирали на него – сердце соискателя ни разу не дрогнуло, а во рту не пересохло…
– Экий вы, разборчивый! – серчала Эсфирь Михайловна. – Уже сороковой год вам, а все плюете в штаны. Фу!
От такой прямоты Абрам Моисеевич краснел ушами. Думал, расплавятся от стыда и стекут его уши прямо тут на паркетные полы воском… Он разводил руками: мол, никто его не влечет со страниц альбома еврейской свахи.
– Во так, – только что и смог выговорить смущенный Абрам.
– Есть у меня секретный альбомчик, – заговорщицки прищурилась Эсфирь Михайловна, – который я редко кому показываю. – И так она посмотрела на Фельдмана, что он испугался увидеть в нем не невест, а женихов.
– Охохох! – воскликнул Абрам Моисеевич, глянув на первый разворот. – Эхехех!
Таких толстых, жирнющих женщин в таком количестве он никогда не наблюдал. Также не ведал он о существовании усатых и бровастых, бородавочных и худых, как сосновая щепа, особей. Неосознанно искривился лицом, будто лимона пожевал.
– Поняла-поняла! – захлопнула секретный альбомчик Эсфирь Михайловна. – Поняла хорошо, что вы не из таких любителей! Выросли в моих глазах… на миллиметр!
Здесь, во спасение, отбили полдень фельдмановские часы, Моисеич сослался на неотложное, заспешил к выходу, но, суетясь, полой сюртука задел некую книжицу, которая, упав с вольтеровского столика, раскрылась своей тайной, оказавшись вовсе не книгой, а маленьким альбомом с фотографиями. Просто переплет был как у книги – кожаный.
– Ах! – воскликнул Фельдман, наклонившись над раскрывшимся альбомом, на развороте которого была запечатлена одна юная особа. На нескольких фотографиях одна и та же. Тут – в аристократический профиль, здесь – в полоборота: дивная красота шеи, ключицы, угадывающиеся под скромным платьем и черными длинными волнистыми волосами, обрамляющими потустороннюю красоту лица. И что за улыбка! Чудо непревзойденное! Чуть-чуть губки разошлись. – Ах!.. Вот она! Вот же она, моя желанная, приходящая во снах, – побледнев, почти простонал он.
– Так что же вы сидите на полу?
– А что делать? – глуповато улыбался Абрам Моисеевич, поднимаясь с раскрытым альбомом, чувствуя приходящее к нему огромное счастье. В мгновение ока и Хупа привиделась, и детки уже побежали в школу. И…
– Что делать? Как что? – удивилась Эсфирь Михайловна. – Берите лопату и срочно бегите на кладбище!..
Фельдман скакнул к двери, но, остановившись, обернулся:
– А зачем? Зачем на кладбище?
– Будете себе невесту из могилы выкапывать! – и захохотала, как старая жаба заквакала. – Не волнуйтесь, Фельдман!.. Шучу! Это прабабка моя на фотографиях!
– Как прабабка?!
– Она самая! Рахиль Соломоновна! При родах рассыпалась2 не до конца, а оттого после родин вскоре померла.
– Рахиль! – затрясся всем телом Моисеич. – Рахиль…
– Да что с вами, мой дорогой? Не припадок ли?
– Нет-нет, – прошептал – и вывалился за порог.
Всю ночь Фельдман плакал в гостевой комнате раввина Злотцкого. Сказать «плакал» – ничего не сказать. Он рыдал всем своим существом. Ноги, руки его колотились о железный остов кровати, он желал физической боли, дабы заглушить душевную муку – но где там! Хотя Абрам и знал, что физической мукой никак не перебить душевную, что нельзя фаршмаком накормить душу – только брюхо насытить, но в данный момент все философские рассуждения не работали, а из костяшек пальцев рук уже сочилась кровь, а голова искала стену, чтобы бахнуться об нее и забыться.
Стены были тонкими, а старческий сон раввина – нежным и деликатным. Спугнуть его было простецким делом, и Злотцкий, накинув халат, выбрался от жены Миры, которая могла дрыхнуть на танковой броне, вышел в коридор и отправился в гостевую к Фельдману, где обнял его физическое тело и душу одновременно. Он ничего не говорил, уста его были немы, лишь сердце сострадало гостю, хоть и не знало оно, уже изрядно пожившее и постучавшее миллионы раз, в чем причина муки такой. В этом и есть прекрасная грань человеческого существа, грань наиредчайшая, такая выдана одному на миллион – сострадать молча и всецело, не узнав причины.
Завидев где-нибудь плачущее дитя, женщина сначала спросит «Что случилось, малыш?» – и только потом хватает его на руки и зацеловывает, пока ребенок не заорет еще громче.
Поднять старика, упавшего на дороге, грязного, с безумными глазами, несущего околесицу, брызжущего слюной, не каждый сможет. Старость, особенно неимущую, почти всегда сопровождает отвращение. Никто не станет представлять себе девяностолетнего описавшегося старика ребенком, девяносто лет назад родившимся розовым и пахнущим раем, который соску сосал, затем ходил в школу, любил своих детей и жену, сотворил прекрасные стихи, полотно какое-то написал значительное и многое чего еще сделал – а сейчас состарился, поглупел и, потеряв равновесие, упал кому-то под ноги, да еще и в лужу. Его даже поднимать не будут. Какая-нибудь опять-таки женщина спросит:
– Вам плохо?
А другой неспешно, чаще мужчина, вызовет «скорую». И у собравшейся вокруг случившегося толпы непременно будет лицо с выражением брезгливости, смешанной с любопытством. И приходить в этот мир нелегко, и уходить тяжко.