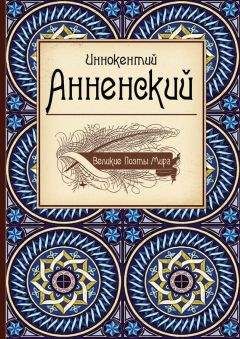Майгулль Аксельссон - Апрельская ведьма
Иногда — когда мы одни — он садится на край кровати и расправляет мое одеяло, но чаще сидит в сторонке и даже не смотрит на меня. Забравшись на подоконник в глубокой оконной нише, он упирается ладонями в колени и глядит в окно, когда говорит сам, а когда я отвечаю, не сводит глаз с экрана монитора. Я для него — скорее мои слова, чем мое тело.
И слова тоже дал мне он. И не только слова. Он дал мне ощущение вкуса и запаха, память о холоде и тепле, имя моей матери и фотографии моих сестер. В Объединении народных промыслов он выпросил для меня домотканую льняную простыню, а в благодарность провел у них доклад о том, как трубчатая структура бельевых волокон противодействует образованию пролежней. Он убедил благотворителей из Ротари-клуба купить мне компьютер, а из «Lions» — телевизор; раз в год он грузит меня на специально оборудованную машину для инвалидов и везет в Стокгольм, в Музей техники, чтобы я могла заглянуть в камеру Вильсона. И, добравшись до места, он позволяет мне часами просиживать в темной комнате и в одиночестве любоваться пляской материи. Все дал мне Хубертссон. Все.
Лишь через пятнадцать лет от меня, измученной, изученной до последней косточки, отступились нейрохирурги Линчёпинга и позволили перевезти в приют в Вадстену. Там первые несколько недель меня пришлось держать под капельницей, чтобы только сохранить мне жизнь. Глаз я почти не открывала и не шевелилась. Уже через несколько дней я ощутила, как набухают и расцветают пролежни у меня на бедрах, хотя ворочали меня каждый час — персонала тогда хватало, и порой весьма ретивого. Одна медсестра, откопав где-то старую вырезку из «Эстгёта-корреспондентен», повесила ее над моей кроватью. Снимок изображал меня, полулежащую в инвалидном кресле, — обритую голову прикрывала белая студенческая фуражка.[4]Самая героическая абитуриентка года!
— Глянь-ка, — говорили каждый день сиделки, стоило им повернуться к стене. — Помнишь? Ты ведь молодчина, вон экзамены сдала...
В то время я могла еще издавать звуки, отчасти напоминающие речь, но меня выматывала самая мысль о том, как мне придется гримасничать, чтобы ответить. Ни о чем на свете я так не мечтала, как о том, чтобы наконец сняли эту ужасную вырезку, но попросить об этом была не в силах.
Хубертссон появился на третью неделю, в четверг, — до этого он был в отпуске. Он шагнул ко мне в палату и что-то бурчал, покуда сиделка докладывала ему мой анамнез. Я не открыла глаз, чтобы на него посмотреть. Врач как врач, что на него глядеть.
Он наклонился над кроватью, осматривая меня, при этом он внимательно изучил висящую на стене вырезку, но от комментариев воздержался. Вместо этого он водил по моему телу жесткой ладонью, щипля и щупая, как прежде щипали и щупали меня сотни других врачей. И лишь когда он уже выходил, я поняла, что он — другой. Он остановился в дверях и сказал:
— Полагаю, вырезку мы уберем. Повесьте ее где-нибудь в другом месте, пусть остальные читают. А ее от этого избавьте...
В тот же день пришла санитарка с мотком скотча и сделала, как он велел. Управившись, она попыталась угостить меня стаканом сока, и впервые за три недели я смогла открыть рот и выпить.
А через несколько дней он пришел уже с толстенной, сантиметров в десять, папкой и, подойдя прямо к моей кровати, взял меня за левую руку.
— Ну как, может, сегодня будем давать показания?
Я тупо посмотрела на него и не ответила.
— Дело плевое, — сказал он и ущипнул меня за руку. — Одно пожатие значит «да», два — «нет».
Я хорошо помнила эту систему сигналов. Самую первую в моей жизни. Времен интерната для детей-инвалидов.
— Тебе, видимо, известно, что тебя всесторонне обследовали и установили диагноз. А еще что-нибудь ты про себя знаешь?
Я отодвинула руку. Ни к чему это.
— Не нужно дуться, — продолжал он. — Ты знаешь, где ты родилась? И кто твои родители? Да или нет? — И он снова, уже крепче, ухватил мою руку. — Ну? Да или нет?
Я сдалась и, закрыв глаза, дважды пожала ему руку. Он тотчас отпустил мою, пошел к окну и уселся на подоконнике, обхватив руками колено.
— Нет, это вообще фантастика, елки-палки, — сказал он. — Значит, лежим тут, рассуждаем насчет астрономии и физики элементарных частиц — читал я твои сочинения, — а о себе самой ни фига не знаем...
Он умолк и принялся рыться в папке. Я следила за ним, толком не видя. Была поздняя осень, и уже начинало смеркаться, — я различала только его силуэт. Наконец он встал и снова подошел к кровати.
— Ведь у нынешнего твоего положения есть причина. И объяснение. У всего есть причина и объяснение. И я могу их тебе изложить. Вопрос в том, хочешь ли этого ты сама?
Я ухитрилась обхватить его руку и сжала ее изо всех сил. Дважды.
— Ага, — отозвался он спокойно. — Как хочешь. Но завтра утром я приду опять...
А мог бы добавить: и послезавтра, и каждое утро — до скончания времен.
Вот он приоткрывает дверь, и золотое перо солнечного света падает из коридора на пол.
— Доброе утро, сударыня, — произносит он, как произносил каждое утро все эти пятнадцать лет. — Ну и как?
Я отвечаю цитатой:
— «О капитан, мой капитан...»[5]
Ухмыльнувшись, он шаркает к оконной нише.
— Я еще не умер. А как там наши сестрицы?
Когда он наконец устроился на подоконнике, я выдуваю ответ, и на мониторе вспыхивает:
— Они получили примерно то, чего заслуживают...
Он смеется:
— Я и не сомневался. Попались, бедняжки, тебе в лапы...
Было время, когда я верила, будто это он насылает эти мои сны наяву. Я их называла так. Другое слово — галлюцинации — звучало слишком тревожно.
Как-то вечером — как раз накануне нашей первой встречи — на жестяной подоконник снаружи моего окна села чайка. Самая обычная сизая чайка — серые крылья и желтые лапки. Но тем холодным и серым ноябрьским вечером чайка никак не могла появиться здесь — в это время года ей полагалось лететь над водами Гибралтара. И мне тоже никак невозможно было оставить собственное тело и внедриться под ее оперенье. Но внезапно я оказалась там, в глубине, окутанная белым шелковистым птичьим пухом.
Сперва я не поняла, что произошло, просто задохнулась, зачарованная, погружаясь в чудесные глубины этого существа. Кишки в ее животе мерцали перламутром, влажно поблескивала красно-коричневая печень, а кости скелета были пустотелые и хрупкие, словно Великий Насмешник взялся было выстругать себе флейту, но устал и бросил и, улыбнувшись, превратил свое творение в самую крикливую и противноголосую из птиц. Только увидев под собой землю, я поняла, где нахожусь, — внутри черного чаячьего глаза.