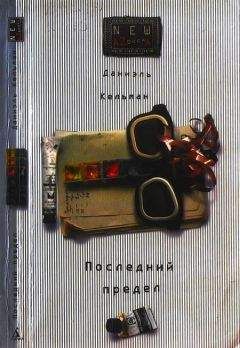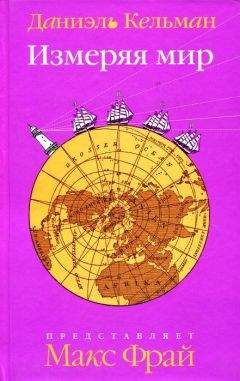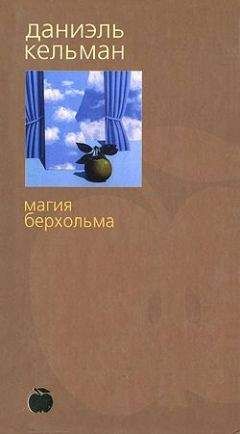Джон Ирвинг - Отель «Нью-Гэмпшир»
— Но я хочу, чтобы ты узнала меня, — сказал он ей, — я хочу узнать тебя.
(«Фу!» — всегда говорила в этом месте истории Фрэнни.)
Шум работающего двигателя заглушил звуки оркестра, и многие танцующие покинули танцплощадку, чтобы посмотреть, что происходит. Моя мать была очень благодарна этому перерыву: она не могла придумать, что ответить отцу. Они подошли, не держась за руки, к краю террасы, которая выходила на пристань, и увидели, что у пристани на волнах качаются огни, в море отходит рыбачья лодка. Лодка только что выгрузила на пристань темный мотоцикл, который теперь и ревел — возможно, он набирал обороты, для того чтобы прочистить свои трубы и цилиндры от влажного соленого воздуха. Мотоциклист, казалось, намеревался, прежде чем двинуться с места, наделать как можно больше шума. Мотоцикл был с коляской, а в ней виднелась темная фигура, неуклюжая и спокойная — как будто человек, на котором надето столько одежды, что ему трудно шевелиться.
— Это Фрейд, — сказал кто-то из сотрудников. И другие сотрудники, постарше, воскликнули:
— Да! Это Фрейд! Это Фрейд и Штат Мэн! Мои родители подумали, что «Штат Мэн» — это название мотоцикла. К этому моменту, видя, что аудитория разошлась, оркестр перестал играть, и некоторые музыканты тоже подошли к краю террасы.
— Фрейд! — кричали люди.
Мой отец (так он всегда говорил нам) с изумлением представил себе, что тот Фрейд в любой момент может подъехать к террасе по лучу света, протянувшемуся вдоль великолепной гравиевой дорожки, и представиться сотрудникам. Так сюда пожаловал Зигмунд Фрейд, подумал отец: он был влюблен и считал, что все возможно. Но это, конечно, был не тот Фрейд, это был тот год, когда тот Фрейд умер. Этот Фрейд был евреем из Вены с трудным и непроизносимым именем, который, работая летом в «Арбутноте» (а работал он там с 1933 года, сразу после того, как покинул родную Вену), за свое умение успокаивать недовольство, как гостей, так и обслуживающего персонала, заработал себе имя Фрейд; он был массовиком-затейником, а так как он прибыл из Вены и был евреем, то по «арбутнотским» понятиям имя Фрейд очень естественно подходило для чудаковатого иностранного остряка. Это имя, кажется, особенно подошло ему, когда в 1937 году Фрейд прикатил на новом мотоцикле «Индиана» с коляской, которую сделал полностью сам.
— Кто у тебя ездит на заднем сиденье, а кто в коляске, Фрейд? — поддразнивали его девушки-работницы отеля, потому что он был ужасно обезображен страшными и отвратительными оспинами («дыры от нарывов», называл он их), и ни одна женщина никогда не смогла бы его полюбить.
— Никто не ездит со мной, кроме Штата Мэн, — говорил Фрейд.
Он расстегнул брезентовый чехол на коляске. В коляске сидел медведь, черный как сажа, с мускулами толще, чем у Айовы Боба, осторожней любой бездомной собаки. Фрейд притащил медведя с лесопилки, расположенной на севере штата, и умудрился убедить руководство «Арбутнота», что сможет выдрессировать зверя для того, чтобы развлекать гостей. Когда Фрейд, эмигрировав из Австрии, прибыл в гавань Бутбей на лодке из Нью-Йорка, в его рабочих бумагах заглавными буквами были указаны два возможных для него рода занятий: ОПЫТНЫЙ ДРЕССИРОВЩИК И СОДЕРЖАТЕЛЬ ЖИВОТНЫХ; ХОРОШЕЕ ЗНАНИЕ МЕХАНИКИ. Животных под рукой не было, так что он чинил автомобили и ставил их на консервацию на те месяцы, когда не было туристов, а сам в это время разъезжал по лесопилкам и бумажным фабрикам, работая механиком.
На самом же деле, как он потом признался моему отцу, он искал медведя. Медведи, говорил Фрейд, вот на чем можно по-настоящему заработать.
Когда мой отец увидел, как под танцевальной террасой с мотоцикла слезает человек, его удивило, насколько радостно рукоплещут незнакомцу старые сотрудники; а когда Фрейд помог выбраться из коляски неуклюжей фигуре, моя мать сперва подумала, что пассажир его — старая-престарая женщина, возможно, мать мотоциклиста (полная старуха, завернутая в черное одеяло).
— Штат Мэн! — закричал кто-то из оркестра и затрубил в свою трубу.
Мои мать и отец увидели, как медведь начал танцевать. Танцуя на задних лапах, он отошел в сторону от Фрейда; затем встал на все четыре и сделал один или два небольших круга вокруг мотоцикла. Фрейд стоял на мотоцикле и хлопал в ладоши. Медведь по имени Штат Мэн тоже начал хлопать. Когда моя мать почувствовала, что мой отец взял ее руку в свою — они не хлопали, — она не стала сопротивляться; в ответ она сжала его руку. Оба не сводили глаз с выступающего в нескольких шагах от них громадного медведя, и моя мать подумала: мне девятнадцать лет и моя жизнь только еще начинается.
— Ты действительно это чувствовала? — всегда спрашивала Фрэнни.
— Все относительно, — обычно отвечала мать. — Но да, именно это я и испытывала тогда. Я чувствовала, что моя жизнь началась.
— Ну даешь, — говорил Фрэнк.
— Так это я или медведь тебе тогда понравился? — спрашивал отец.
— Не говори глупостей, — отвечала мать. — Я говорю обо всем в целом. Это было начало моей жизни.
И это место в рассказе было такой же отправной точкой, как отцовское «он был слишком стар, чтобы и дальше оставаться медведем». Я чувствовал, что эта история не дает мне покоя; когда моя мать говорила, что это было началом ее жизни, я представлял ее жизнь подобной мотоциклу, долго рычавшему на холостом ходу и наконец рванувшему с места.
И что, интересно, вообразил мой отец, взяв ее за руку только потому, что рыбачья лодка привезла в его жизнь медведя?
— Я знал, что он станет моим медведем, — говорил нам отец, — не знаю даже почему.
И, возможно, именно знание, что когда-то что-то станет ему принадлежать, тоже сыграло роль в том, что он взял мою мать за руку.
Вы видите, почему мы, дети, задавали столько много вопросов. Это была сумбурная история, такая, какие и предпочитают рассказывать родители.
В тот первый вечер, когда они встретили Фрейда и медведя, мои отец с матерью еще даже не целовались. Когда оркестр перестал играть, а служащие разошлись в женское и мужское общежития — несколько менее элегантные здания, стоящие поодаль от главного корпуса отеля, — мои мать и отец пошли к берегу смотреть на воду. Если они тогда и разговаривали, то нам, детям, никогда потом не рассказывали, о чем именно. У пристани, вероятно, было несколько классных парусных яхт, и даже на частных причалах в Мэне наверняка были пришвартованы одна или две рыбацкие лодки. Вполне возможно, там была и шлюпка, которую отец предложил позаимствовать для небольшой прогулки; мать, вероятно, отказалась. Форт Пофам стоял тогда в развалинах и не привлекал такого внимания туристов, как сегодня; но если на берегу около форта Пофам горели огни, то их можно было увидеть от «Арбутнота-что-на-море». В широком устье реки Кеннебек, при впадении ее в залив, стоял буй с колокольчиком и огнями, а на острове Стейдж в 1939 году уже вполне мог быть маяк — отцу никогда не удавалось этого припомнить.