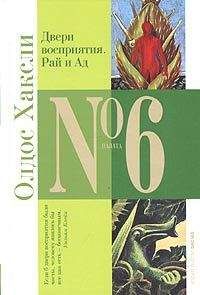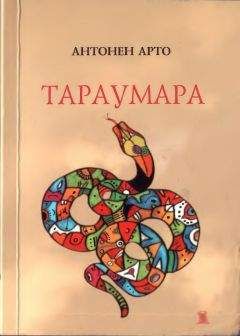Олдос Хаксли - Двери восприятия
Из этого долгого, но необходимого экскурса в царство теории мы можем теперь возвратиться к чудесным фактам — четырем бамбуковым ножкам стула посреди комнаты. Подобно нарциссам Вордсворта, они несли с собой всевозможные богатства — дар превыше всяких цен, дар нового непосредственного видения самой Природы Вещей, вместе с более умеренным сокровищем понимания на месте, в особенности — понимания искусств.
Роза это роза это роза. Но эти ножки стула были ножками стула были Св. Михаилом и всеми ангелами. Спустя четыре-пять часов после события, когда воздействие недостатка мозгового сахара исчезало, меня взяли на небольшую прогулку по городу, которая, уже ближе к закату, привела нас в то место, которое скромно утверждало себя как «Самая Большая В Мире Аптека». В задней комнате «Аптеки», среди игрушек, открыток и комиксов стоял, к моему удивлению, ряд книг по искусству. Я взял первый попавшийся том. Это был Ван-Гог, а картина, на которой открылась книга, оказалась «Стулом». Этим ошеломляющим портретом «Ding an Sich'a», который безумный художник видел с каким-то полным обожания ужасом и пытался выразить это на холсте. Но то была задача, для выполнения которой даже силы гения оказалось совершенно недостаточно. Тот стул, что видел Ван-Гог, очевидно, был? по сути своей, тем же самым стулом, что видел и я. Но, будучи несравнимо более реальным, чем стул обычного восприятия, стул на этой картине оставался никая не большим, чем необычайно выразительным символом факта. Факт был проявленной Таковостью; это же было всего лишь эмблемой. Такие эмблемы — источники подлинного знания о Природе Вещей, и это подлинное знание может служить для подготовки ума, который, сам по себе, принимает его как следствие немедленных прозрений. Но на этом и все. Сколь бы выразительными ни были символы, они никогда не смогут стать теми вещами, которые замещают.
В этом контексте было бы интересными исследовать произведения искусства, доступные великим знатокам Таковости. На какие картины смотрел Экхарт? Какие скульптуры и картины играли роль в религиозном опыте Св. Иоанна Крестителя, Хакуина, Хуи-ненга, Уильяма Лоу? Ответить на эти вопросы выше моих сил; но я очень сильно подозреваю, что большинство великих знатоков Таковости обращали очень мало внимания на искусство — некоторые вообще отказываются иметь с ним какое-либо дело, другие довольствуются тем, что критический глаз расценит как второсортную или даже десятисортную работу. (Личности, чей преображенный и преображающий ум может видеть Все в каждом этом, первосортность или десятисортность даже религиозной картины будет вопросом надменнейшего безразличия.) Искусство, я полагаю, — только для начинающих или же для тех преисполненных решимости упертых людей, которые твердо решили удовольствоваться эрзац-Таковостью — символами, а не тем, что они значат, элегантно составленным рецептом вместо настоящего обеда.
Я поставил Ван-Гога обратно на полку и взял том, стоявший рядом. Это была книга по Боттичелли. Я переворачивал листы. «Рождение Венеры» — никогда не была среди моих любимых. «Венера и Марс», это очарование, так страстно осуждавшееся бедным Раскиным на вершине его собственной затянувшейся сексуальной трагедии.
Великолепно богатая и замысловатая «Клевета Апеллеса». А потом — несколько менее знакомая и не очень хорошая картина «Юдифь». Мое внимание было привлечено, и я зачарованно глядел на нее: не на бледную невротическую героиню или ее прислужницу, не на волосатую голову жертвы или весенний пейзаж фона, но на лиловатый шелк плиссированного лифа Юдифи и длинные юбки, развеваемые ветром.
Это было тем, что я уже видел раньше — видел тем самым утром, между цветами и мебелью, когда случайно опустил взгляд, а потом продолжал страстно и пристально смотреть туда по своей воле — на собственные скрещенные ноги. Эти складки на брюках — что за лабиринт бесконечно значимой сложности! А текстура серой фланели — как богата, как глубока, как таинственно роскошна! И вот они опять здесь, в картине Боттичелли.
Цивилизованные человеческие существа носят одежду, поэтому не может быть ни портретной живописи, ни мифологического или исторического сюжетоизложения без изображения складчатых тканей. Но хотя простое портняжное искусство может служить объяснением происхождения, оно никогда не объяснит самого роскошного развития драпировки как основной темы всех пластических искусств. Художники — это очевидно — всегда любили драпировку ради нее самой — или, скорее, ради самих себя. Когда вы пишете или режете драпировку, вы пишете или режете формы, нерепрезентативные во всех практических целях, — тот вид необусловленных форм, на которых художникам даже в самой натуралистической традиции нравится отвязываться. В средней Мадонне или Апостоле строго человеческий, полностью репрезентативный элемент отвечает примерно всего лишь за десять процентов целого. Все остальное состоит из множества раскрашенных вариаций неистощимой темы мятой шерсти или полотна. И эти нерепрезентативные девять десятых Мадонны или Апостола могут быть точно так же важны качественно, как и в количестве.
Очень часто они задают тон всему произведению искусства, они устанавливают ключ, в котором излагается тема, они выражают настроение, темперамент, отношение художника к жизни. Стоическое спокойствие являет себя в гладких поверхностях, в широких неизмученных складках драпировок Пьеро. Раздираемый между фактом и желанием, между цинизмом и идеализмом, Бернини умеряет все, кроме карикатурного правдоподобия своих лиц с огромными портняжными абстракциями, которые суть воплощение — в камне или бронзе — непреходящих общих мест риторики: героизма, святости, возвышенности, к которой человечество вечно стремится, по большей части, — тщетно. А вот вам юбки и накидки Эль Греко, тревожно напоминающие внутренности; вот острые, перекрученные, пламеобразные складки, в которые свои фигуры облачает Козимо Тура: у первого традиционная духовность проваливается в безымянное физиологическое влечение; у второго — корчится в агонии ощущение, в сущности, чужого и враждебного мира. Или давайте рассмотрим Ватто: его мужчины и женщины играют на лютнях, готовятся к балам и арлекинадам, на бархатных лужайках и под благородными деревьями пристают к Цитере, о которой мечтает каждый влюбленный; их огромная меланхолия и освежеванная мучительная чувственность их создателя находят выражение не в зарегистрированных действиях, не в изображаемых жестах и лицах, но в рельефе и текстуре их тафтяных юбок, атласных колпаков и дублетов. Здесь — ни дюйма гладкой поверхности, ни мгновения мира или уверенности, — только шелковая глушь бессчетных крохотных складок и морщинок с непрекращающейся модуляцией — внутренней неуверенностью, переданной с абсолютной убежденностью руки мастера, из тона в тон, из одного неопределенного цвета в другой. В жизни человек предполагает, Бог располагает. В пластических искусствах предположение совершается субъективной материей; а то, что располагает, — это, в конечной степени, темперамент художника, непосредственно же — по крайней мере, в портретной, исторической или жанровой живописи — вырезанная или написанная драпировка. Между собой эти двое могут постановить, что fкte galante[4] должно трогать до слез, что распятие должно быть умиротворенным вплоть до веселья, что стигматизация должна быть невыносимо соблазнительной, что подобие чуда женской безмозглости (я думаю сейчас о несравненной Мадемуазель Муатессье Энгра) должно выражать суровейшую, бескомпромисснейшую интеллектуальность.