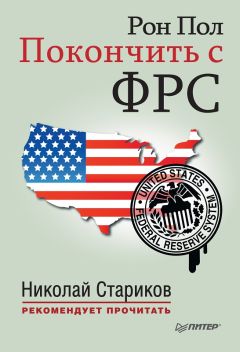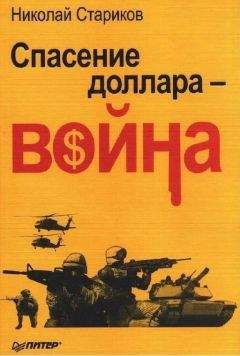Олдос Хаксли - Серое Преосвященство: этюд о религии и политике

Обзор книги Олдос Хаксли - Серое Преосвященство: этюд о религии и политике
Олдос Хаксли
Серое Преосвященство: этюд о религии и политике
Олдос Хаксли[1]
В середине и конце 1920-х годов средняя и старшая ступень восьмого — классического и исторического — класса в школе Сент-Пол отличались удивительной прогрессивностью. Дело было не в преподавателях — людях добропорядочных, сентиментальных, без воображения (за вычетом одного скромного, эксцентричного, преданного поклонника Литтона Стрейчи). Даже самые культурные из них рекомендовали нам Шоу, Уэллса, Честертона, Гильберта Марри, Флекера, Эдварда Томаса, Сэссуна и «Лондонский Меркурий», а мы читали Джойса, Фербэнка, Эдварда Карпентера, Уиндхэма Льюиса, «Логику» Шиллера, Хэвлока Эллиса, Элиота, «Крайтерион» и — под влиянием Артура Калдер-Маршала, чей старший брат жил тогда в Америке, — книги Г. Л. Менкена, Карла Сэндберга, Шервуда Андерсона; нас увлекали Кокто, transition, ранние сюрреалисты. Мы смотрели свысока на «Жизнь и литературу» — журнал, издававшийся Дэсмондом Маккарти и казавшийся нам слишком робким и банальным. В число главных раскрепостителей нашего сознания входили Д. Б. С. Холдейн, Эзра Паунд, Олдос Хаксли.
О себе я не могу сказать, что кто-то меня освободил; если молодым я был в оковах, то остаюсь в них и поныне.
По подобно тому, как в XVIII веке литераторы — под предводительством Вольтера, главы гильдии, — пришли на помощь множеству угнетенных; как затем помогали людям жить Байрон и Жорж Санд, Ибсен и Бодлер, Ницше, Уайльд и Жид, а может быть, даже Уэллс и Рассел, — так и моим ровесникам помогли обрести себя романисты, поэты и критики, занятые центральными проблемами эпохи. Иногда гражданское и нравственное мужество действует на современников сильнее, нежели новая эстетика или природная одаренность. Одному из моих сверстников, человеку исключительно честному, умному и совестливому, которого сковывали и угнетали неопределенность его социального положения и суровое пуританство отца, нравственную свободу принесли (как другим — Анатоль Франс, или психоанализ, или жизнь среди арабов) книги Хаксли — прежде всего «Контрапункт» и некоторые рассказы. Темные углы осветились, запретное было высказано, интимный опыт, один намек на который возбуждал прежде у моего товарища панику и чувство острой вины, был подробно и без умолчаний описан. С этого момента началось его интеллектуальное развитие — он стал одним из самых известных и плодовитых ученых нашего времени. Однако сильнее всего моих сверстников привлекал не этот терапевтический эффект, а то, что Хаксли (наряду еще с несколькими авторами) — при всей своей пресловутой неспособности создавать характеры — играл с идеями так вольно, весело и виртуозно, что восприимчивый читатель, приученный к прозрачности Шоу и Честертона, приходил в замешательство и восторг. Основой для блистательных пассажей служили сравнительно немногочисленные и простые моральные принципы. Хоть и заслоненные блеском технического совершенства, они были прочны, понятны и, словно монотонный, настойчивый, непрерывный бассо остинато, неумолимо звучащий за изощренной интеллектуальной игрой, проникали в сознание семнадцати- и восемнадцатилетних юношей, сохранявших по большей части энтузиазм и нравственную впечатлительность, сколь бы сложными и декадентскими они — по своей наивности — себе ни казались.
В поздних романах эта действенность, по-моему, ослабела. Бассо остинато — простые аккорды нравственной и духовной философии Хаксли — становился все навязчивее и разрушал бодрую, восхитительно дерзкую, «современную», неоклассическую мелодию, которая одна и придавала его романам блеск. Серьезный, благоразумный, гуманный, терпимый Хаксли сороковых и пятидесятых годов был окружен всеобщим уважением и восхищением, но преобразующей силой — действенностью — обладал другой Хаксли: ранний, «циничный», отрицающий Бога, пугавший и раздражавший родителей и учителей порочный нигилист, искренние и сладко-сентиментальные тирады которого — особенно о музыке — с восторгом проглатывали юные читатели, воображавшие при этом, что предаются одному из самых опасных и экстравагантных наслаждений иконоборческой послевоенной эпохи. Хаксли был одним из великих культурных героев нашей юности.
Перед первой встречей с ним в 1935 или 1936 году в кембриджском доме нашего общего друга — лорда Ротшильда — я ожидал, что увижу человека, привыкшего к поклонению, а может быть, и высокомерного. Но он со всеми присутствующими держался очень вежливо и очень любезно. За ужином общество — чуть ли не в каждый перерыв между блюдами — играло в интеллектуальные игры. Все наперебой блистали остроумием и эрудицией; Хаксли явно нравилась эта гимнастика ума, но он играл без задора, доброжелательно, спокойно. Когда с играми наконец было покончено, он заговорил — по-прежнему монотонно и тихо — о людях и идеях: казалось, он смотрел на них отрешенно, как на какие-то диковины, странные — но не страннее многого другого в нашем мире, который он считал чем-то вроде кунсткамеры или энциклопедии. Он говорил спокойно, с располагающей искренностью, очень просто. В его словах не было слышно ни злости, ни умышленной иронии — лишь самая мягкая и добрая насмешка самого невинного рода. Ему нравилось рассказывать о пророках и мистагогах — и даже таким персонажам, как граф Кайзерлинг, Успенский и Гурджиев, которых он не очень жаловал, воздавалось должное и более чем должное; даже о Мидлтоне Мерри говорилось милосерднее и серьезнее, чем в «Контрапункте». Говорил Хаксли очень хорошо; ему были необходимы внимание и тишина, но он не упивался собой, не царил — и очень скоро все присутствующие покорились его мягкому гипнотизму; из атмосферы ушла лихорадочная страсть поражать и блистать, всеми овладели спокойствие, серьезность, заинтересованность, умиротворенность. Боюсь, что нарисованная мной картина может внушить мысль, будто Хаксли, при всех своих достоинствах, был (подобно некоторым очень хорошим людям и талантливым писателям) то ли педантом, то ли проповедником. Но этого о нем никак нельзя сказать — по крайней мере, по моим с ним встречам. Он обладал огромным нравственным обаянием и цельностью — именно эти редкие качества (как и у Дж. Э. Мура, в остальном на него не похожего), а не блеск или оригинальность в полной мере искупали бесцветность и известную водянистость равномерно лившихся слов, которые все мы слушали охотно и почтительно.
Вторая мировая война практически уничтожила общество, о котором писал Хаксли, и центр его интересов сместился от внешней жизни к внутреннему миру человека. К своему новому предмету он подходил строго эмпирически — с неизменной опорой на опыт конкретных людей, о котором сохранились устные или письменные свидетельства. Метод его был спекулятивным и творческим лишь постольку, поскольку Хаксли полагал, что человеческий опыт часто загоняли в слишком тесные рамки; что отвергнутые современностью гипотезы и идеи об отношениях человека к человеку и к природе объясняли так называемые пара- или сверхнормальные феномены лучше, нежели традиционная физиология и психология, основанные, как ему казалось, на неадекватных моделях. У него было дело, которому он служил. Этим делом было открыть глаза читателям — как специалистам, так и профанам — на до сих пор как следует не изученные и не описанные связи между искусственно разделенными сферами: между телесным и психическим, между чувственным и духовным, между внутренним и внешним. Он был гуманистом в самом буквальном и достойном смысле этого страшно затасканного слова; предметом его интереса и заботы был человек как природный объект — в том же смысле, что и для philosophes[2] XVIII века. Свои надежды он возлагал на прогресс самопознания. Он боялся, что человечество погибнет от перенаселения или насилия; спасти людей от гибели, по его мнению, могло только самопознание — то есть познание тесной взаимосвязи психических и физических сил, познание места и роли человека в природе. Пониманию этих наиважнейших проблем, он считал, много как пользы, так и вреда принесли и наука и религия.
Он скептически относился к тем, кто пытался свести в единую систему проблески истины, дарованные мистикам и визионерам, в которых он видел необычно восприимчивых, или талантливых, или удачливых людей, взрастивших и расширивших свою восприимчивость с помощью усердной и самоотверженной практики. Он не верил в сверхъестественную благодать. Он не был теистом, тем более — ортодоксальным христианином. Во всех своих сочинениях — вдохновляли ли их мальтузианские кошмары, или ненависть к насилию и жестокости, или вражда к тому, что он называл идолопоклонством, — то есть к слепому преклонению перед единственной ценностью или организацией, не подлежащими рациональной критике и обсуждению, — или классики индуизма и буддизма, или западные мистики и наделенные психологическим и духовным ясновидением писатели: Мэн де Биран, Кафка, Брох (у Хаксли было превосходное чутье на оригинальные таланты), — или композиторы, скульпторы, художники, или поэты, писавшие на всех тех языках, на которых он читал, — какими бы ни были его непосредственная задача и настроение, он всегда возвращался к той единственной теме, которая оставалась для него центральной в поздние годы жизни: к участи человека в XX веке. Раз за разом он противопоставлял, с одной стороны, беспрецедентный в истории человечества прогресс: технические изобретения поразительной силы и красоты, высокий уровень жизни, невиданно широкие и блестящие перспективы — и, с другой стороны, угрозу взаимного уничтожения и всеобщей гибели, обусловленную невежеством и рабством у иррациональных идолов и разрушительных страстей — то есть у тех сил, которые каждый человек в принципе способен контролировать, как это уже удалось отдельным людям в прошлом. Наверно, после Спинозы никто с такой страстью, последовательностью, полнотой не верил в тот принцип, что освобождает лишь знание — не просто знание физики или истории, физиологии или психологии, но намного более широкая панорама потенциального знания о тех явных и тайных силах, сведения о которых Хаксли, бесконечно памятливый и всеядный читатель, находил повсюду, исполняясь то страха, то надежды. Его поздние произведения — и романы, и трактаты (четкую границу между ними можно провести не всегда) — вызывали всеобщее уважение. Уважение — но не энтузиазм. Те, кто считал его современным Лукианом или Пикоком, сетовали на то, что куда-то делись остроумие, виртуозность, жонглирование фактами и идеями, сатирический взгляд; на то, что живущий в Калифорнии печальный, мудрый, добрый человек — всего лишь благородная тень того писателя, который обеспечил себе прочное место в истории английской словесности. Одним словом, считалось, что он сделался очередным проповедником без рясы, которого (как и многих других поэтов и пророков) покинул дух и у которого (как у Ньютона и Роберта Оуэна, Вордсворта и Суинберна) в результате немного осталось за душой, но который серьезно, достойно, утомительно твердит это немногое тающей на глазах аудитории. Подобные критики ошибались по крайней мере в одном принципиальном отношении: если он и был пророком, то не метафорически, а буквально. Подобно тому, как Дидро в «Le Reve de d'Alembert»[3] и в «Supplement au Voyage de Bougainville»[4] (особенно в первой книге) предвосхитил биологические и физиологические открытия XIX и XX века и в виде смелых догадок сформулировал некоторые из основных естественнонаучных достижений современности, так и Олдос Хаксли, с той особой чуткостью к очертаниям будущего, которой иногда обладают объективные художники, вышел на передний край человеческого самопознания и сумел заглянуть в будущее. Он был провозвестником того, что безусловно станет одним из главных достижений текущего и следующего столетия, — провозвестником новой психологии, открытий в той сфере, которую сейчас за неимением лучшего термина мы называем психофизической проблемой; в той области, где современные работы о мифе и ритуале, о психологических корнях социального и индивидуального поведения, о соотношении физиологических и логических оснований языка, равно как и о паранормальных психических феноменах, психотерапия и т. п. — лишь самые первые, пробные шаги.