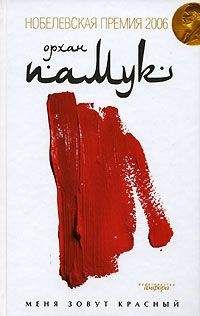Захар Прилепин - Обитель
— Если не рубить корни по одному, а разом огромной силою вырвать пень — то он в своих бесконечных хвостах вынесет кус земли размером с купол Успенской! — в своей образной манере то ли ругался, то ли восхищался Афанасьев.
Норма на человека была — 25 пней в день.
Дельных заключённых, спецов и мастеров переводили в другие роты, где режим был попроще, — но Артём всё никак не мог решить, где он, недоучившийся студент, может пригодиться и что, собственно, умеет. К тому же решить — это ещё полдела; надо бы, чтоб тебя увидели и позвали.
После пней тело ныло, как надорванное, — наутро казалось, что сил больше для работы нет. Артём заметно похудел, начал видеть еду во сне, постоянно искать запах съестного и остро его чувствовать, но молодость ещё тянула его, не сдавалась.
Вроде бы помог Василий Петрович, выдав себя за бывалого лесного собирателя — впрочем, так оно и было, — заполучил наряд по ягоды, протащил за собой Артёма, — но обед в лес каждый день привозили остывший и не по норме: видно, такие же зэки-развозчики вдосталь отхлёбывали по дороге, а в последний раз ягодников вообще забыли покормить, сославшись на то, что приезжали, но разбредшихся по лесу собирателей не нашли. На развозчиков кто-то нажаловался, им влепили по трое суток карцера, но сытней от этого не стало.
На ужин нынче была гречка, Артём с детства ел быстро, здесь же, присев на лежанку Василия Петровича, вообще не заметил, как исчезла каша; вытер ложку об испод пиджака, передал её старшему товарищу, сидевшему с миской на коленях и тактично смотревшему в сторону.
— Спаси Бог, — тихо и твёрдо сказал Василий Петрович, зачёрпывая разваренную, безвкусную, на сопливой воде изготовленную кашку.
— Угу, — ответил Артём.
Допив кипяток из консервной банки, заменявшей кружку, вспрыгнул, рискуя обрушить нары, к себе, снял рубаху, разложил её вместе с портянками под собой как покрывало, чтоб подсушились, влез руками в шинель, накрутил на голову шарф и почти сразу забылся, только сумев услышать, как Василий Петрович негромко говорит беспризорнику, имевшему обыкновение во время кормёжки несильно дёргать обедающих за брюки:
— Я не буду вас кормить, ясно? Это ведь вы у меня ложку украли?
Ввиду того, что беспризорник лежал под нарами, а Василий Петрович сидел на них, со стороны могло показаться, что он говорит с духами, грозя им голодом и глядя перед собой строгими глазами.
Артём ещё успел улыбнуться своей мысли, и улыбка сползла с губ, когда он уже спал — оставался час до вечерней поверки, зачем время терять.
В трапезной кто-то дрался, кто-то ругался, кто-то плакал; Артёму было всё равно.
За час ему успело присниться варёное яйцо — обычное варёное яйцо. Оно светилось изнутри желтком — будто наполненным солнцем, источало тепло, ласку. Артём благоговейно коснулся его пальцами — и пальцам стало горячо. Он бережно надломил яйцо, оно распалось на две половинки белка, в одной из которых, безбожно голый, призывный, словно бы пульсирующий, лежал желток — не пробуя его, можно было сказать, что он неизъяснимо, до головокружения сладок и мягок. Откуда-то во сне взялась крупная соль — и Артём посолил яйцо, отчётливо видя, как падает каждая крупинка и как желток становится посеребрённым — мягкое золото в серебре. Некоторое время Артём рассматривал разломанное яйцо, не в силах решить, с чего начать — с белка или желтка. Молитвенно наклонился к яйцу, чтобы бережным движением слизнуть соль.
Очнулся на секунду, поняв, что лижет свою солёную руку.
* * *Из двенадцатой выходить ночью было нельзя — парашу до утра оставляли прямо в роте. Артём приучил себя вставать между тремя и четырьмя — шёл с ещё зажмуренными глазами, по памяти, с сонной остервенелостью счёсывая с себя клопов, пути не видя… зато ни с кем не делил своего занятия.
Обратно возвращался, уже чуть различая людей и нары.
Беспризорник так и спал прямо на полу, видна была его грязная нога; «…как не подох ещё…» — подумал Артём мимолётно. Моисей Соломонович храпел певуче и разнообразно. Василий Петрович во сне, не первый раз заметил Артём, выглядел совсем иначе — пугающе и даже неприятно, словно сквозь бодрствующего человека выступал иной, незнакомый.
Укладываясь на ещё не остывшую шинель, Артём полупьяными глазами осмотрел трапезную с полутора сотнями спящих заключённых.
«Дико! — подумал, зажмуриваясь, вспуганно и удивлённо. — Лежит человек, ничего не делает, и так… большую часть… жизни…»
В другом конце вспыхнула спичка — кто-то, не стерпев, захотел передавить хоть одно клопиное семейство при свете. Клопы даже ночью непрестанно ползли по стойкам нар, по стенам, падали откуда-то сверху…
Артём открыл на малый всполох спички глаза, увидел, как кто-то из второго взвода полез в чужой мешок. Встретился взглядом с вором, зажмурился, отвернулся, забыл навсегда.
Тут же разбудил утренний, пятичасовой колокол, и спустя несколько мгновений заоравший Афанасьев:
— Рота, подъём!
Сегодня Артём ненавидел Афанасьева; вчера кричал другой дневальный, гортанным голосом, — и ненависть была к нему.
Через минуту плохо различимый в противной полутьме Моисей Соломонович уже пел:
— Где вы теперь, кто вам целует пальцы? Куда ушёл ваш китайчонок Ли?
Артём скосился на китайца, ночевавшего совсем рядом, но тот, похоже, не слышал слов песни: сидел на своём втором ярусе, гладил шею и лицо, словно под руками вновь обретал себя, своё тело и сознание.
— Ты, бля, оперетка, заткнись! — крикнул кто-то из ещё не поднявшихся с нар блатных.
Моисей Соломонович споткнулся на середине слова.
— Я же вроде бы негромко, — сказал он в никуда, разводя руками.
Молчал Моисей Соломонович, впрочем, недолго — вскоре снова еле слышно заурчал что-то — вносили пищу.
Можно было встать в очередь и ждать минут сорок, пока дойдёт до тебя — но Артём развивал в себе терпение, чтоб не тратить время впустую.
Пересев под лампочку, успел подшиться и полистать местный, в лагере выпускаемый самими же зэками журнал «Соловецкие острова» — Василий Петрович брал в библиотеке, видимо, для поддержания едкой неприязни к лагерной администрации на должном уровне. Артём в журнале читал чаще всего поэтическую страничку — надо сказать, весьма слабую, разве только Борис Ширяев, не без старания слагавший с чужих голосов, обращал на себя внимание. Освободился он или ещё нет?.. Журнальные стихи, какими б они ни были, Артём заучивал наизусть — и повторял их про себя иногда, сам не очень понимая зачем.
Только разобравшись со всеми этими делами, Артём встал в очередь: как раз оставалось несколько человек.