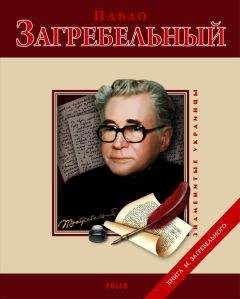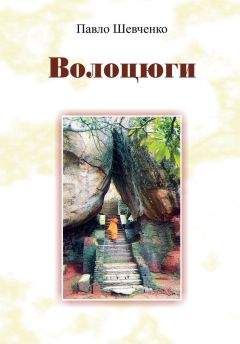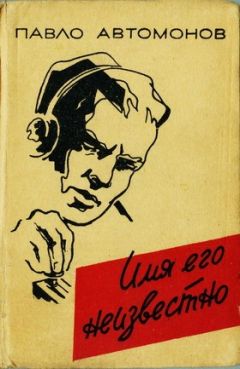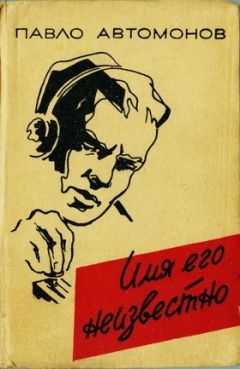Хьелль Аскильдсен - Ингрид Лангбакке
— Турбьерн.
— И сказать мне нечего.
— Конечно, есть.
— Я живу там один всю неделю только для того… а теперь ты вдруг собралась на работу… тебе денег мало?
— Ты один? Это я торчу целыми днями одна и скоро свихнусь, ты этого хочешь?
— А как же Унни?
— Унни?
— Да, Унни. Она должна перебиваться сухомяткой только потому…
— Только почему? И с чего ты взял, что ее я заброшу… уж не говоря о том, что Унни сама советует мне пойти на эту работу, да и вообще, зачем ты приплетаешь сюда Унни, ведь ты же имеешь в виду совсем другое?
— Да ради Бога, делай как знаешь. Я здесь больше не живу.
Она не отвечает: хорошего ей сказать нечего, а для остального злости не хватает, больше всего ей хочется, чтобы улеглось ожесточение в душе, чтобы они примирились. Но Турбьерн говорит:
— Ты думаешь, я ради себя завербовался на стройку?
Она не отвечает. Сердце бешено колотится, лучше выждать.
— Я сделал это, чтобы вам с Унни было хорошо.
Она не сдерживается:
— Возможно. Хотя я была против — ты помнишь?
— Ты не понимала положения дел.
— Чего такого я не понимала? С чего бы я не могла разобраться в ситуации? Разве не я сказала, что коли денег не хватает, я тоже пойду работать, и разве не ты ответил тогда вопросом: не хочу ли я тебя унизить? Этого я никак не хотела.
— А теперь бы не отказалась?
Ингрид берет паузу, сердце стучит в ушах, потом говорит:
— Тебя унижаю не я.
Он вскакивает, стоит, смотрит на нее, глаза злющие. Буравит ее взглядом, но ничего не говорит. Потом дергается в сторону телевизора, выключает его и широким шагом выходит из комнаты. Что ж теперь, думает Ингрид. Потом она слышит, как хлопает дверь пристройки, встает, подходит к окну и успевает увидеть, как он уходит по дороге.
Домой он возвращается ночью, пьяный в дым. Ингрид просыпается, ей кажется, будто в дом ломится огромный зверь. Посомневавшись, она встает, надевает халат, спускается в гостиную, оттуда на кухню. Он сидит за столом, уронив на него голову, так что лица ей не видно.
— Тебе бы лучше лечь, — говорит она негромко.
Он издает звук, будто силится ответить, но не может. Она обхватывает его, чтобы помочь подняться, говорит:
— Турбьерн, идем.
Он поднимает голову — та половина лица, что ближе к ней, залита кровью.
— Господи! Что ты с собой сделал?
Он кривит рот в ухмылке и передразнивает ее:
— Что ты с собой сделала?
— Турбьерн!
— Иди и ложись.
Она берет полотенце, смачивает его теплой водой и хочет стереть кровь. Он отталкивает ее:
— Иди ложись!
Она понимает, что это не порез, на взгляд кажется, будто он пропахал щекой по бетонной стене.
Она оставляет полотенце на столе и уходит. Потом лежит, ждет, но он не идет, и она незаметно для себя погружается в сон. Под утро он приползает, но так тихо, что она понимает, что не должна просыпаться.
* * *— Что это было с отцом ночью? — спрашивает Унни.
— Хватил лишку и поцарапал лицо. Мы тебя разбудили?
— Он подрался?
— Больше похоже, что упал.
— Он как приедет, сразу завихривается.
— Это я могу понять.
— Потому что тут твоя вина, ты это хочешь сказать?
— Отец сейчас не в себе, ты же видишь.
— Из-за тебя? Да?
— Унни!
— Почему ты не хочешь поговорить со мной?
— Что ты имеешь в виду?
— То, что меня это тоже касается. Ты по своей глупости считаешь, что я ничего не понимаю. А на самом деле — это ты ничего не понимаешь! Блин!
— Не смей так выражаться!
— Хочу и буду! Почему мне нельзя разговаривать дома так, как я привыкла?! Или здесь вообще нельзя выражаться ясно? И почему ты не можешь объяснить, что у вас? Я бы хоть могла решить, как себя вести. Или мне и решать не положено, я ж соплячка!
— Что ты такое несешь?
— Ты прекрасно знаешь! Ты думаешь, я дура? Ты не хочешь вмешивать меня во все это, но хоть отдаешь себе отчет, каково мне? Или ты меня нарочно мучаешь?
— Замолчи!
— Нет, не замолчу, потому что мне надоело быть пай-девочкой, которой не положено рта раскрывать. Это такой же мой дом, как и твой. Мне тоже есть что сказать, а если нельзя — то и до свидания, я лучше свалю отсюда, а ты сиди тут со своими тайнами. Господи, мама, я же вижу, что между вами происходит, а ты вроде бы, чтобы оградить меня, говоришь: то, что ты видишь, — неправда. Мам, у тебя что, совсем головы нет? Я считала тебя умнее.
— Ты не можешь понять…
— Вот оно что, я не могу понять! Где мне, в моем-то сопливом возрасте! Тогда я тебе кое-что скажу: отец для тебя значит больше, чем я. Нет проблем, все понятно, но почему ты не можешь сказать это вслух? Чтобы я тоже могла что-то выбрать, а не…
— Это неправда. Это вообще нельзя сравнивать.
— Еще как можно. Но теперь тебе придется раз в жизни меня выслушать, потому что я не так глупа, чтобы не понимать, что говорю. Отец не хочет, чтобы ты выходила на работу, это при том, что его нет всю неделю, а тебе хочется работать. В отличие от него, я живу здесь постоянно, но я хочу, чтобы ты пошла работать, поскольку вижу, как тебе это важно. Отец думает только о себе, и ты это прекрасно знаешь, но тоже думаешь исключительно о нем. Отец не принимает тебя в расчет, но ты все равно подлаживаешься под него, а я — всего только дочка, эка важность, не хватало еще напрягаться говорить со мной. Знаешь, что я тебе скажу? Ты относишься ко мне так же, как отец относится к тебе.
Ингрид не отвечает. Унни встает, с грохотом отодвигает стул:
— Черт бы побрал всех этих родителей!
Потом она уходит, не забыв со всей силы хлопнуть дверью.
* * *Турбьерн греется на солнце перед домом и смотрит на поля, которые он сдал в аренду. Ингрид стоит у окна в гостиной и смотрит на его спину. По дороге ковыляет Сиверт, он был в городе, ходил в церковь. Через пару часов Турбьерну возвращаться на стройку. Бедняга, думает, наверно, и какого черта я приезжал домой? — с внезапной жалостью понимает Ингрид. Крупный, здоровый верзила, а поди ж ты, какой слабак. Отпустить его, так ей совесть не позволяет, поэтому Ингрид решительно направляется к двери, распахивает ее — и замирает. Ну почему вечно я, вдруг обижается она, почему никогда не он? Но потом она все-таки наводит на себя дисциплину и спускается во двор. Молча встает с ним рядом. Ни о чем в такой ситуации не поболтаешь, а все слова вдруг кажутся ей непомерно значительными. Она отступает на несколько шагов, но недалеко, чтобы услышать, если он заговорит. Он долго молчит, потом разворачивается и уходит домой. Она семенит следом.
— Зачем ты так? — говорит она.
Он не отвечает.
— Ты хочешь, чтобы я отказалась от этого места?
Он не отвечает.
— Здорово свалить из дому, правда?
Тогда он поворачивается и смотрит на нее — ей делается страшно. Она останавливается, не идет за ним. Он поднимается по лестнице и скрывается за дверью.
Она остается на улице. Сначала она не может объяснить себе, что именно так напугало ее, только знает, что не надо попадаться ему на глаза; она обходит дом и спешит в свою дубраву. Тут, среди зеленых уже деревьев, ей открывается суть: он разлюбил меня. Просто больше он тебя не любит, объясняет она себе. Именно эта мысль почему-то никогда раньше не посещала ее, и она даже испытывает своего рода облегчение, что все объяснилось — поначалу.
Ингрид думала не возвращаться до его отъезда, но теперь она разворачивается и бредет домой.
Она опоздала, он ушел буквально минуту назад, часом раньше нужного времени. Она выходит из-за кустов и видит его внизу на дороге, она окликает его, дважды и так громко, что он не может не услышать, но он не оборачивается. Она звереет, бросается вдогонку и настигает его у моста перед большой дорогой; она запыхалась и не может вымолвить ни слова, зато он может и говорит:
— Если ты королева, то я — король.
И уходит, не оглянувшись. Она остается.
* * *Вечером она затевает вафли, не совсем ясно понимая, что это на нее нашло. Радости, судя по ее виду, хлопоты ей не доставили, и сперва они, отец, она и Унни, сидят, не зная, что бы сказать. Потом тишина начинает давить, и они обмениваются ничего не значащими словами: приятности в воскресном ужине нет ни грана — на стол и сладости на нем легла тень Турбьерна. Вафли удались на славу, и отец, и Унни нахваливают их, но все сегодня горчит.
Внезапно Ингрид становится нестерпимо обидно, что Турбьерн ушел из дому так нехорошо, не по-людски; она выскакивает из-за стола, запирается в спальне, падает на кровать и разражается рыданиями. Она плачет долго, выплакивает слезы под сухую: ей жалко Турбьерна и себя жалко. Она лежит с сухими глазами и прислушивается к голосам в гостиной, они долетают как приглушенное, неразборчивое бормотание.
— Он сложил свою сумку и ушел, ни слова не сказав, — рассказывает Сиверт Унни. — Он стал спускаться по дороге, потом я услышал, как твоя мать окликнула его, потом я увидел, что она бежит за ним, а он идет как ни в чем не бывало — когда он скрылся за углом, она еще его не догнала, потом она тоже пропала из виду, а немного погодя вернулась, вот и все, что я знаю. Но ей плохо, я вижу.