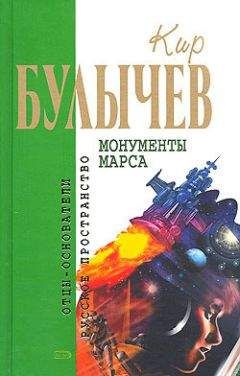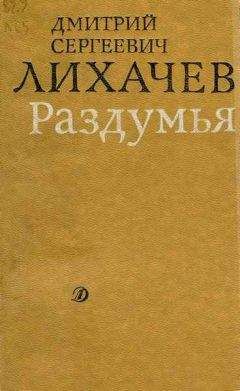Виталий Богомолов - Крест на ёлке
Некоторые литовки приносят в таком гадком-прегадком состоянии, что с души воротит. Год назад, закончив сенокос, хозяйка не то что вымыть — даже травой не отёрла свой инструмент, так и сунула куда попало, вспомнив о нём только теперь, когда снова понадобился. И вот остатки травы, налипший мусор, земля — вся дрянь приржавела к полотну косы, а черенок бывает ещё и курами обгажен, безобразную литовку не хочется даже в руки брать. Но приходится, как откажешь человеку, когда он с таким доверием пришёл. В этот момент у него вся надежда только на тебя одного. Берёшь и делаешь, как умеешь, как получится.
Работать доводится, конечно, не задаром, плату несут, кто пару-другую яиц, кто молока банку, кто творога, а случается, что и сметаны, и даже масла. Это уж в зависимости от возможности владелицы литовки, от количества обращений ко мне и от степени щедрости. Я никогда ничего не прошу, но и не отказываюсь, ибо у меня нужда как раз в том, что приносят. Люди всё знают.
С одной стороны даже и приятно, что ты здесь такой нужный и пригодливый, а с другой — надоедает всё же, к концу сенокосного сезона начинает уже и совсем раздражать; думаешь, поскорее бы отходил он, этот сенокос.
Одному назойливо-нудному человеку я срезываю литовку без малейшего желания, всегда принуждая себя. Это Ольге. Она из тех людей, про которых говорят: не все дома. Кстати сказать, дом свой она превратила в такое пугало, что невозможно пройти мимо без удивления.
Снаружи весь он безобразно измазан глиной, перемешанной с коровьим дерьмом и соломой; это Ольга промазывала пазы, чтоб тепло в избе держалось. Все семь окон её избы, три из которых на дорогу, обиты картонками от коробок, лохмотьями от старых фуфаек, полосками войлока, нарезанного от сношенных валенок, и досками. Почти весь свет в окнах закрыт, оставлено только верхнее стекло рамы, и оттого в избе у Ольги даже в солнечный день — мрак. А грязи на полу, хоть метлой мети. И одевается Ольга — посмотреть жутко: на грузном, рыхлом теле её какая-то разноцветно-заплатистая толстая кофта на булавках и юбка хуже того; на немытых, обутых в галоши ногах спущенные чулки, платок намотан на неприбранной голове, как попало. В общем, очень напоминает Ольга свою перемазанную снаружи избу.
И не то, чтоб всё это шло от бедности — пенсию теперь неплохую получает, а от натуры и какой-то примитивной скупости, что ли. Деньги она, должно быть, копит. Самой ей уже далеко за семьдесят, но есть двое детей (дома они, правда, не живут), есть внуки и двое правнуков. Для них-то, наверное, и копит деньги. Может, думает Ольга о том, какие немыслимые тысячи платят ей теперь... Не поймёт, что мало что купить на них можно.
Принесёт она литовку и начинает плакаться, как трудно ей, как плохо жить одной, никто не помогает, дров нет, сена нет, крыши худые, везде бежит в непогоду. Ты по лезвию узкой, сношенной косы срезкой обоюдоострой водишь, сдираешь с усилием стружку металлическую, а Ольга тебе под напряжённую руку несёт всякий вздор. Того гляди — оплошаешь и без пальцев останешься. Тем более что приходит она рано, в семь, в восемь часов утра, когда у меня самый сон. Но она будет настырно кричать и ухать под окошками, переходя от одного к другому, пока не выйдешь.
Этим простодушием Ольга меня всегда сердит. Правда, откуда ей знать, что ложусь-то я спать не с курами, как она, а с предутренним пением петухов.
Вот и в этот раз согнала она меня с постели раным-ранёшенько, принесла две литовки острить, уселась на скамейку возле ворот и стала донимать всякой бабьей брехнёй. При этом ещё оправдывается, что шибко надо срезывать литовки, а заплатить-то ей совсем нечем за работу: два яичка было, так сама съела, как идти сюда; коза мало даёт молока. Будто я его есть буду, козье молоко. Денег, говорит, только рублёвка. Предлагает её: возьми-де хоть это.
Ещё не так давно на рублёвку можно было купить сто коробков спичек, пять буханок хлеба. И даже в то время срезывание литовки оценивалось в пару рублей. Сейчас на рубль практически ничего не купишь, его может хватить разве что на десяток спичинок. Вот и выходит, с учётом инфляции, Ольга мою работу оценила в одну пятую копейки. Обидно? Не на что тут обижаться, так это ничтожно-пустяшно. Однако ж раздражает невольно такое издевательство.
Пытаюсь успокоить себя мыслью, что это Бог её послал: как раз сегодня годовщина маминой смерти, и я должен принести жертву, выполнив доброе дело с терпением и с открытою душою. Да вот не так-то это просто.
Ольга словно почувствовала мои мысли, спрашивает.
— Когда Евгенья-то умерла?
— В сегодняшний день, — отвечаю.
Она крестится и вслух читает молитву о упокоении усопших.
— А сколь годов прошло? — допытывается Ольга.
— Шесть, — говорю.
— Вот как времечко-то летит, — качает она сокрушённо головой и интересуется: — Поминок будешь ладить?
— Не по карману нынче мне поминок, — сетую, — в церковь подал на обедню заказную.
— Я в церкви спрашивала, сколь будет стоить поминание за здравие на год, — делится она. — Говорят, тысячу рублей. Дорого. Мишу записала. Может, пить перестанет, будут за него молиться в церкви дак.
Миша — это сын, он у неё старший, живёт в Кунгуре.
Говорю с недоумением:
— Он тебе совсем не помогает, да пьёт, рассказываешь, по-страшному, а ты за него молишься.
— Может, Господь наставил бы его на путь, — произносит она с печалью и надеждой. — За детей своих надо молиться, они ведь от наших грехов страдают. Вон Егор Яковлевич: сын возле Файки Ульянкиной пал, неладно сделалось пьяному...
— Пьяный и неладно, а знает, куда падать! — смеюсь я, понимая, что упал парень возле дома Файкиного.
— По Егора сбегали, — продолжает Ольга, не обращая внимания на мою шутку. — Он пришёл, тоже пьяный, взял у Сашки бутылку красного и говорит: «Закопайте его здеся!» — и ушёл. Вот как сына своего сам похоронил. А после с Нюрой всё же пришли — он уж мёртвый. Отец проклял на смерть сына своего.
Прислушиваюсь к этой философии тёмной неопрятной бабы, и от интереса даже сонная вялость во мне незаметно развеялась и оживился ум.
Христианский взгляд Ольги меня просветлённо удивляет. Как истинная мать — она молится за своего сына, отпавшего и блудного, пьяницу, забывшего её и свой долг перед нею. Когда недавно приезжал, рассказывает, слёзно просила его подправить избную дверь, совсем плохо стала закрываться, и в стужу холодно в избе. Не сделал, поленился.
У меня изменилось настроение. Срезываю литовки тщательно, не торопясь, порой останавливаюсь, разговариваю.
Ольге, вижу, приятно моё внимание, она дома насидится в одиночестве и рада поговорить.
Когда-то Ольга жаловалась вот так же на внучку, что эта соплюха собралась выходить замуж, показывала даже письмо, в котором девчушка простодушно выпрашивала у бабушки немалые деньги на свадьбу. Интересуюсь, что с внучкой её сейчас. Ольга охотно рассказывает про неё, что недавно второго родила, а первому пятый год уже.
— Да сколько ж ей лет? — спрашиваю. Оказывается, всего-то двадцать первый, а уже с десятым мужиком живёт. Я изумлён, хотя и понимаю, что цифра десять сказана, наверное, в шутку. Ольга, смеясь лёгким смехом, говорит, что внучка вся в неё.
— Я молоденькой была, тоже никому не отказывала. Кто попросит — давала. Раньше девок бегать не пускали, как теперь. Только в воскресенье в церковь. А ходили из Михайловки в село Усановку, за пять километров. Вот и ждёшь воскресенья, вот и ждё-ёшь, чтоб побегать, не о церкви думала... Господи, прости меня грешную! — восклицает она с неподдельным сокрушением о своих грехах и крестится.
Потом доверительно рассказывает, как пришла недавно в магазин Нинка Мотиха, такая же старуха, показывает на неё и говорит: «Ольга малоумная».
— А я про себя-то и думаю: так мне и надо за грехи мои, не достойна лучшего. Меня все малоумной называют. Не обижаюсь, только радуюсь да молюсь. Сосед, Лёшка-то, не пускает в колодец, собаку навязал, чтоб я не подошла к воде. Хожу на речку да молюсь: так мне и надо, так и надо за грехи мои.
На речку ходит! Вот те на! Это ж от избы Ольгиной метров двести с гаком, туда-обратно — чуть не полкилометра. С двумя-то вёдрами воды на коромысле. Да всё бурьяном. Сердце моё сжимается от жалости к старухе. Всегда считалось последним делом — в воде отказывать. Ну и гад же этот Лёшка, оказывается! А литовку срезать не хватает своего толку, тоже ко мне таскает. Придёт и весь из себя такой застенчивый, вежливый.
Срезывать литовку приходится, низко наклонясь. У меня крестик выбился между пуговками рубашки и свесился. Ольга, видимо, заметила и спрашивает:
— «Верую» знаешь?
— Знаю, — отвечаю. — Как же, ведь это главная наша молитва, на ней вера православная стоит и держится. Символ веры!
— Добрый парень! — хвалит она.
А утро такое тёплое, тихое, солнечное, всё вокруг светится множеством радостных оттенков зелёного, и она умиротворённо произносит: