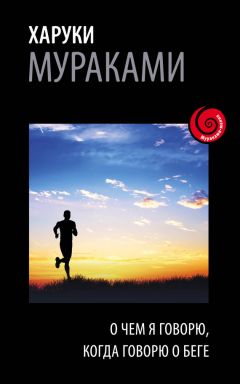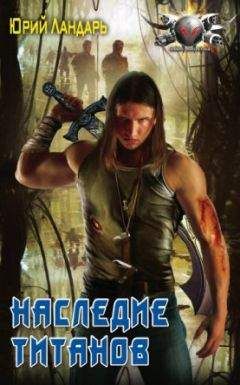Юрий Божич - Вечер трудного дня
— Приподнятое, — отвечаю.
— Ты к самодеятельной песне как относишься?
Я поморщился. Сам я привык задавать любые вопросы, вплоть до откровенно идиотских /например, у бухгалтера добиваться, какая его любимая книга; ясное дело, бухгалтерская; только автора он не помнит/. Но чтобы еще и отвечать на подобное!.. И главное: кто это там запел, накануне выборов? Мои нестройные размышления прервал Лешин тенор:
— У нас на днях традиционный конкурс, "Товарищ гитара" называется. Хотел тебя в жюри пригласить.
— На днях — это когда?
— Послезавтра. Что скажешь?
— На выполнение ультиматума и то, — говорю, — больше времени дают.
— Ну, подумай, — отвечает, — до завтра.
— У меня со слухом, — говорю, — неважно.
— При чем тут слух? Ты же — творческий человек.
— Интересно, чего это я такого натворил?..
— Ну, как… Ты же пишешь…
— Это, — говорю, — работа. Ты, вон, выступаешь…
Короче, я устал и согласился. Мою участь, как потом выяснилось, разделил и Пашка.
Помещением для мероприятия выбрали актовый зал института. Когда мы вошли, людей было немного. Располагались они с разумной небрежностью декораций. Откуда-то из-за кулис доносились гитарные звуки. Траектории их пересекались достаточно произвольно. По сцене в пароксизме оживленной бездеятельности путешествовал Жарков. Я знал его лишь визуально. Он считался примой местных бардов. Некоторое сходство с Макаревичем, видимо, навсегда лишило его душевного покоя. Он поминутно подходил к микрофону и изъяснялся с ним на языке числительных:
— Раз, раз, раз… один, один… раз, два, три, четыре… Нормально?
В руках у него, как снятые перчатки, белели небольшие листки бумаги.
Мы с Пашкой суеверно устроились в седьмом ряду. Чуть позже к нам присоединился Золотарев. Тут же пустился объяснять, какие предусмотрены номинации. Меня это только запутало. Принцип судейства представлялся непостижимым. Единственное, что я понял: оценки выставляются в самом конце. И если ты не дурак, вполне сможешь сойти за умного. Довольно и того, чтобы тебя напоследок не заставили петь. А то, чего доброго, придется симулировать легочный спазм.
Народ понемногу прибывал, контрабандно протаскивая с собой пестрый багаж из шума и смеха. Мелькнула бурлацкая фигура Малкова в ультрамариновой куртке. На бедре — кофр. Смотрится табуреткой.
Подошел золотаревский зам Бусенков. Поприветствовал прессу и понес свой верблюжий профиль на сцену. По дороге оброс суетливыми жестами. Возле микрофона они с Жарковым разыграли любительскую пантомиму "барин и слуга": Жарков вальяжно разводил руками, Бусенков энергично тряс головой. Наконец "слуга" был изгнан взашей, а "барин" приступил к обязанностям распорядителя бала. Скука, впрочем, не сходила с его лица. Менялся лишь ее темперамент: меланхолическая скука, флегматическая… Была даже холерическая. Жарков называл имя очередного исполнителя, бросал зрителям какой-нибудь мизинец его биографии и, пока те достраивали часть до общего, оглашал любимую поговорку барда. Среди этих изречений попадались, кстати, довольно изящные, на восточный манер. К примеру, "Будущее — это бездонная пропасть" или "Взвесить время может только вечность". Интересно, что подобные поэтические образы не очень-то вязались со своими проповедниками. Перед публикой возникали обыкновенные молодые люди, исполняли обыкновенные песни. Выделялись те, у кого откровенно отсутствовал слух.
Одно очаровательное создание с челкой и косичками канонически спело про виноградную косточку. Кто-то в дым сигарет плеснул перламутра и об этом под музыку сообщил собравшимся. Ему похлопали.
Вышел какой-то длинноволосый парень в очках, по виду — окрестьянившийся Джон Леннон. Вывел с собой еще троих. К струнным щипковым добавилась губная гармоника. Грянули. Парня тут же сгорбатило, как от желудочных колик. Гитара принялась обтачивать воздух. Из зала заорали:
— Макар, давай!
Макар запел. Текст звучал угрожающе: какая-то тварь не должна была уходить от Макара, но она ушла, однако он знает, что он настигнет ее и они вместе еще нюхнут кокаина. Видимо, чтобы не ждать порожняком предстоящего момента встречи, Макар в куплетах рисовал колоритный антураж: черный ветер, картонные окна, в доме сломано эхо звонка, устало киснет банка пива и т. д. Затем гармоника вступала заливистей, и опять шел припев — про тварь. Зал оживился. Макар с командой резко выбивался из шеренги стриженных бардовских затылков. Слушать его удовольствия, может, и не доставляло… Он был вторичен, как клякса с чужого пера. Но досада, по крайней мере, — не зевота.
Мы с Пашкой переглянулись.
— Лауреат, — сказал я.
— Точно, — отозвался Пашка. — Конь педальный!
Тем временем вдоль сцены совершал свои профессиональные набеги Малков. Работал он, что называется, в корзину — в газету больше одной фотографии все равно не втиснешь. Так что ожидался кризис перепроизводства. Подход был явно нерациональный, что-то вроде осушения болот при помощи тампакса.
Жарков наконец объявил заключительный этап: в дело вступали мозги и души членов жюри. Члены встали. Сладко потянулись. Тряхнули затекшими ногами.
— Пойдем, пойдем, — скороговоркой сказал Пашка и ткнул меня в бок. — Я уже вижу: для тебя есть сюрприз.
Я даже не успел возразить. Он вытолкал меня в проход. Потом увлек на середину зала, где было почти свободно. И тут уже круто осадил:
— Вот, познакомься. Это Ириша Сорока.
Чьи-то резвые красные башмаки обогнали мой понурый взгляд. Я поднял голову.
Напротив меня стояла женщина в голубовато-салатном пальто и с желтым шелком на шее. Габариты — как у присевшей белки. При желании может затеряться в рукаве. В уголках губ — бутончики улыбки. Глаза — оазисы очков, причем почти поглотившие пустыню. Подбородок, разумеется, выше носа.
— Здравствуйте, — нараспев произнесла Ириша.
Бутончики распустились, лицо стало трогательно задиристым. Стоит, понимаешь, перед тобой такой маленький Рикки-Тикки-Тави и проверяет: Наг ты или все же человек. Кажется, первой мыслью у меня было тогда — погладить ее по макушке. Но внезапно в мозги вторгся какой-то компьютерный вирус, внутри что-то бесшумно переключилось. Я состроил физиономию доброго иезуита и с ядовитым елеем спросил:
— Так и что бы вы хотели, чтобы в наших передачах почаще звучало?
Ни одна буква "ч" во фразе не дала звука, отличного от того, что слышится в "часах" или "четках". Это было дешевым возмездием за критику моего некадифицированного прононса. Ириша не обиделась. Наоборот, рассмеялась. Период нашего заочного знакомства был завершен.
В тот день я шел домой, решая проблему: похожа она на свой голос или нет? Так и не определил.
Погода стояла скверная. Зима рассопливилась, прикинулась осенью. Асфальт мокрый. Шаг — как с языка. Темнота-а…
Эх, думаю, коньячку бы сейчас пятизвездночного! В смысле — свинины жареной. Говорят, усталость снимает…
Полторы тарелки дымящегося борща с салом, съеденные на родимой кухне, подействовали как седуксен. Я задремал. Приснились рыжие кошки и огненный петух. Затем все куда-то пропало. Навалился тяжелый и пустой сон. Прервался он внезапно: я подскочил, напуганный какой-то мыслью, которую силился и не мог припомнить. В висах ломило. Я нащупал тумблер настольной лампы, глянул на будильник: начало пятого. За окном — предрассветная кофейная тьма, последние ее глотки. И вдруг мне страшно захотелось двух вещей: горячего чаю и холодной прогулки… Терпкий кипяток вязал язык и десны. Внутри накапливалась теплота. Я оставил в кухне свет — много не нагорит, а возвращаться будет куда приятней. И вышел из квартиры.
На улице ни с того, ни с сего расчувствовался и запел "Вечер трудного дня". Разумеется, без слов. Представляете?! Февраль. Воспоминания о не выпавшем снеге. Оранжевые самокрутки фонарей. Идет мужик и мурлычет "Битлов". Что могут подумать старые девы? Страждущим от бессонницы, им-то доподлинно известно, что в такое время на улицах интеллигентного города можно обнаружить только последних любовников и первые автобусы. И те, и другие, между прочим, выглядят вожделенно.
…Через две недели я проиграл выборы. Через год, работая вместе с Ирой и Пашкой над циклом музыкальных программ, посвященных дням фирмы "Мелодия" в Рубежном, я занес в свой дневник: "Милая Ириша. Влюбиться нельзя, не любить — невозможно". А через три года родился Данька. Можно считать, ему повезло: я предлагал его наречь Сигизмундом. Спасительницей доброго имени сына выступила Ира. Мать все-таки…