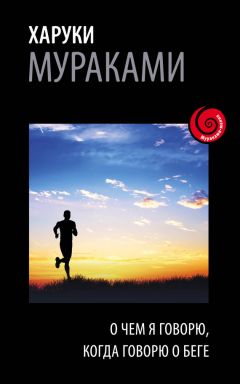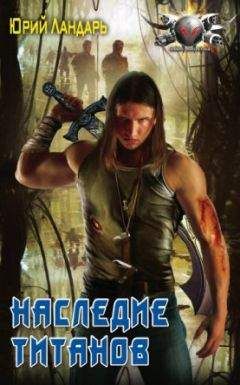Юрий Божич - Вечер трудного дня
Через пару минут раздался недюжинный храп.
Я умылся и лег в постель. За стеной кавказские парни решали, кому идти на охоту за девочками. Выпало какому-то Агасу. Все почему-то этому страшно обрадовались. В том числе и сам Агас. Я слушал глухой соседский хохот, храп Гены, снимающего обнаженную правду истории, и страдал от предчувствия бессонницы. Но, слава Богу, в ту ночь эта дама меня не посетила.
Пробудился я ранним утром. За стенкой было тихо. Гена дрыхнул, широко раскрыв рот. Волосы его металлически блестели. Комнату пронизывали шелковые нитки сквозняка. Бумажные кандидаты мерзли на подоконнике. Я без энтузиазма переложил их на стол и начал расправу над их грамматикой. Сдалась она на удивление быстро. Гена даже не успел проснуться.
В полигрфиздате меня авансом похвалили. На сей раз обошлось без упоминаний о лютых врагах турецкого султана. Хорошая, думаю, примета. Непонятно только — к чему?..
В общем, домой я вернулся засветло. Не устоял — ломанул в редакцию. Там наткнулся на Пашку: в лице — итальянская небритость и траур озабоченности. На выдохе — густой чесночный запах.
— Здорово, — говорю. — Ты мрачен, как средневековье. Что-то стряслось?
— Да ну их в задницу! — куртуазно ответил он. — Проинтервьюировал Владимира Петровича Есипа, вчера только программу откатал… А сегодня уже вдули по самые уши. Собаки дикие!
Я кивнул. Понятно: речь шла о горкомовских иерархах.
— Так самое интересное, — горячился Пашка, — он это же выступление подготовил и для газеты! Ему ж как кандидату должны выделить площадь на полосе?..
Я заулыбался: Владимир Петрович, бесспорно, выходил на орбиту. Он умудрялся и в прежние годы проявлять политическую активность, за что прослыл внутренним эмигрантом и дежурным скандалистом. Тогда он уличал отдельных должностных лиц. Сегодня переметнулся на критику системы. Его мировоззренческая честность сомнений не вызывала: достаточно один раз побывать у человека в гостях, чтобы понять — кому же все-таки "и рубля не накопили строчки". Из сокровищ, хранимых в квартире, у Есипа значились только книги и семейный культ личности его самого. Свою красивую жену он подавлял разнообразием собственных дарований. То он вычерчивал генеалогическое древо русских царей и выяснял, какая же его ветвь больше всего надломилась. То писал стихи под Вознесенского, чтобы позлить поклонниц поэта близнецовой похожестью своих виршей на строки советского классика. При этом выкрикивал: "На кухне! При свете лампы! За двадцать минут!" — чем сражал лироманок наповал. То резал изумительно тонкие экслибрисы. Сын Саша перенял от него именно это, последнее, умение. А дочь Лера — язвительную иронию. Когда я ей рассказал, как Владимир Петрович однажды случайно познакомил меня со своими книжными миниатюрами, она томно улыбнулась:
— У папы всегда "рояль в кустах".
Из слабостей Есип обладал самой почтительной: ему хотелось "пасти народы".
Я глянул на Пашку:
— Он что, призывал к свержению конституционного строя?
— Кто — Есип? Да нет, вспомнил Моисея… Я хмыкнул. Моисей, с его сорокалетним стажем скитания по пустыне, кочевал у Есипа из статьи в статью, как неприкаянный. Его почему-то отовсюду вычеркивали. Это рушило всю совокупность аргументации и вызывало у Владимира Петровича досаду с легкой примесью ехидства.
— …призвал всех задуматься, — продолжал Пашка. — Для свободы, сказал, должно умереть рабство. Партию, разумеется, обложил: преступная, мол, организация…
— Как будто он первый об этом догадался.
— В том-то и дело!
Появился Малков. Буквально только что отщелкал на ЖБИ бригаду передовиков. Бригадир, по его словам, смущался и норовил водрузить на голову защитную каску.
— Я ему, понимаешь, говорю: давай без головного убора. А он: нас Дьяков всегда в касках фотографировал — чтоб по технике безопасности…
Дьяков был Андрюхиным предшественником. В наследство Малкову он оставил бардак в лаборатории, сломанный фотоаппарат и консервативные привычки своих фотомоделей. Рабочие — непременно в касках, интеллигенция — с телефоном. Колхозникам повезло несколько больше — их в городе просто не водилось. А то ведь подумать страшно: быть запечатленным для истории рядом со свиной, скажем, харей. Ужасная судьба! В том числе и для хари.
Малков ушел в свою каморку.
— Тебе привет, от Ириши Сороки, — с деликатностью случайного знакомого сообщил Пашка.
— Спасибо.
Иришины приветы были изящными знаками препинания в моей неуклюжей жизни. Они как бы склеивали то, что само по себе должно было бы непременно распасться. Я смутно догадывался, что время зачастую течет не из прошлого в будущее, а от человека к человеку. И даже конкретнее: от женщины — к женщине. Течет и не может остановиться. Оно вообще, я заметил, редко берет отгулы. В основном, после смерти.
— Она просила передать, — вновь заговорил Пашка, — что выпускник Ленинградского университета мог бы и не "шокать".
— Мог бы, мог бы, — буркнул я.
У меня в серьезных отношениях с женщинами чаще всего до сего времени срабатывала такая схема: мне давали словесную оплеуху — я брался ухаживать. Как в том анекдоте: пока поджопника не дадут… С женой, которая с некоторых пор обитала так далеко, что казалась уже не столько женой, сколько предместьем тещи, все вышло аналогично. О прошедшем и вялотекущем мы, конечно, обоюдно молчим. Ибо — известная истина: при общении расстояния облагораживают. Наша немота самой высокой пробы. Я допускаю, впрочем, что в том, другом, полушарии расколотой фамильной ячейки обо мне уже слагаются легенды. Типа, папа — летчик. Или, скажем, принял израильское подданство /заодно с обрезанием/. Или погиб на пожаре, погребен в Кастроме, посмертно награжден переходящим почетным шлангом. Мало ли… Но это отдельная тема. А сто лет назад, помню, я шлялся по Ленинграду в апельсиновой куртке. И меня, наивного, называли "сапогом". За что, Герасим?! Подумаешь, армия у человека за плечами!.. Разумеется, я жаждал доказать обратное: в смысле, что я — не "сапог". Доказательства зашли так далеко, что я вынужден был жениться. После этого шага моя беременная избранница стала обнаруживать во мне проблески таланта. Спрашивала:
— Помнишь, мы на заливе гадали по Евтушенко? Открыли страницу, а там — про тебя: "завернут в Шекспира и Пушкина". Помнишь?
Я кивал. Какой разговор! Евгений Александрович — поэт проницательный. Нострадамус, в некотором смысле… Кто-то приголубил его в свое время злой пародией: "Ты — Евгений, я — Евгений.// Ты — не гений, я — не гений.// Ты — говно, и я — говно.// Я недавно, ты давно". Оно и понятно: когда это пророков любили?.. "В Шекспира и Пушкина…"
…И теперь вот уже другая женщина указывала мне на вечную подчиненность образования происхождению, настоящего — прошлому… Я с такой нежностью относился к ее голосу — и на тебе! На крыльях ангела узреть внезапно когти!
— Хорошая, — говорю Пашке, — у тебя работа. То автора передачи вздрючат, то участника помоями обольют.
— Божич, это знамение! Помяни мое слово!
— Помяну, помяну…
Я проводил его до выхода на лестничную площадку. Пожал руку. Его шапка, казалось, не просто измеряла пространство вокруг головы. Она как бы длилась. Не шапка — развалины нимба. Когда-то нимб бегал и лаял.
У себя в кабинете я нервно икнул. Бумажный хлам на рабочем столе действовал угнетающе. Сама мысль о том, что здесь требуется какая-то сортировка, пугала своей неотесанностью. К ней стоило подготовиться. Я сгреб все верхний ящик, с трудом его закрыл. Посмотрел за окно. На улице судорожно темнело, словно ночь не сразу отыскивала дорогу. Захотелось есть и спать. Причем одновременно. Противоречие не казалось антагонистическим. Я даже расфилософствовался. Неисповедимым образом пришел к довольно странному заключению: дни делятся на длинные и короткие. От сезона это не зависит. Сегодня, например, день выдался безразмерный.
Я нащупал в кармане брюк связку ключей. Извлек, повертел на пальце. Эффект получился неожиданный: грубой трелью залился телефон. День, чтоб ему сдохнуть, продолжался.
Я взял трубку.
Звонил Леша Золотарев. "Этот еще недовыбранный!.." — ругнулся я про себя.
Леша был главным комсомольцем города. Обаятельнейший парень, кристальный карьерист. Длина шеи — двадцать сантиметров. Гибрид лебедя с кувшином. Баллотировался в областной совет. Однажды даже мы вместе морочили головы избирателям. Его платформа, помнится, отличалась густотой посулов и завидным разнообразием. Пенсионерам, например, он обещал совсем не то, что чернобыльцам, а чернобыльцам — иное, чем афганцам. Рефреном шло: молодежь — в политику! Есть такие деятели — аукают себе на пляже…
— Как настроение? — бодро спросил Леша.
— Приподнятое, — отвечаю.
— Ты к самодеятельной песне как относишься?