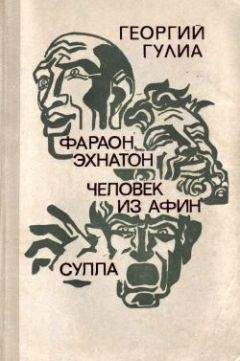Георгий Пряхин - ДОПРОС. Пьеса для чтения
Один ноль в пользу человека в золотых погонах.
— Я могу сказать только, что некоторые из них... ну, — мнётся, — если не графоманские, то не шибко художественные... Но я же вам не строчевышивальная машина! — завершает опять с вызовом.
— Это уже что-то. Скажите, что вы отзываете его как малохудожественное.
— Нет. Хватит с меня отказной телеграммы в Нобелевский комитет.
— Вы что упорствуете? — со скрипом поднимается прокурор и начинает тяжело расхаживать по кабинету. — Чего добиваетесь? В самом деле — в кутузку?! Может, сидеть при Сталине и было делом чести, доблести и геройства, а при этом, — с неуверенной опаскою вновь взглядывает на простенок. Но мысль не заканчивает, перескакивает:
— Вы действительно помните этот разговор? О Мандельштаме... Ведь он вас и в самом деле, как и в случае с Булгаковым, предупредил. Не только уел, но и — предупредил. От написания стихов, подобных «кремлевскому горцу».
Поэт молчит.
— ...Вот и я вас — предупреждаю. Не надо! Не заставляйте брать грех на душу... Да в конце-то концов, чёрт подери, неужели вы не понимаете, что в той же вашей «Рождественской звезде» крамолы куда больше, чем в этом... гм ... пасквиле?!
Чудак этот поэт: поднимает голову, а глаза у него блестят почти что счастьем.
— Не понимаете?!
Поэт мотает головой так истово, что как дважды два: всё, зараза, контра понимает.
— Ну и что же тогда? Не от ребёнка же отказываетесь.
— В ребёнке мне уже отказывали, — зло и глухо гудит тот. — И даже дважды. У вас же, на Лубянке: мол, не может быть у такого старого...
— Это не у нас, — останавливается и выставляет ладони вперед — чур! чур! — прокурор. — Это — у них!
— Ну да, я и забыл: вы же были обвинителем Берии.
Прокурор мрачнеет: Берию расстреляли сразу же после его обвинительной речи. Даже не дав ему дежурного занюханного адвокатишку.
— А теперь вот вы и мой обвинитель. Универсал...
— Но-но!
— Неужели вы думаете, что моя работа менее благородна, чем ваша? Ведь люди звереют именно тогда, когда перестают понимать стихи. А перестают их понимать в первую очередь тогда, когда талантливые стихи перестают рождаться как таковые. Не тогда даже, когда их не печатают, а когда не рождаются, — кричит, приподнимаясь со стула. — Вы этого добиваетесь? Так тогда шлёпните меня сразу. Это у вас хорошо получается, — опять, зараза, о Берии напомнил, — и грузно, по-стариковски опускается на стул.
— Так я же и говорю: талантливые, а не на злобу дня, — довольный своею уловкою, усмехается прокурор. — Договорились?
Поэт опять зажимает уши ладонями.
— Договорились, — отвечает за него прокурор.
Идёт к дверям и вместо того, чтобы воспользоваться кнопкою на торце стола, распахивает двери и кричит в приёмную — там даже охранник вскакивает.
— Анна Ивановна!
Возвращается, садится теперь уже в своё кресло.
— Для вас же стараюсь. Вдруг ещё напишете что-нибудь путное.
Поэт нехотя убирает ладони — век бы не слыхать:
— Могли бы и понять: моя работа тоже не менее благородна, но при этом ещё более опасна, чем ваша...
— Как вы думаете, долго наверху продержится этот «человек без свойств»?
Прокурор закашливается.
— Кто-кто?
— Ну, этот ваш — звонарь, — поэт тоже смотрит в сторону простенка.
Прокурор попёрхивается, собираясь что-то рявкнуть.
Но в то же время входит Анна Ивановна — та самая, пожилая, что сидела с «Новым миром» в приёмной. Теперь уже у неё в руках большая, разлинованная стенографическая тетрадь с десяток остро отточенных карандашей в цветном стакане.
— А я думаю: недолго, — усмехается поэт.
Прокурор грозит ему пальцем.
— Вы читали Музиля? — улыбается поэт: как-никак размен уже состоялся.
— А что, его перевели?
— Да нет. В подлиннике.
— В подлинниках я немцев не читаю.
— Вообще-то, австрияков...
— Я знаю переводчика, Апта, который сейчас переводит его, — робко встревает, заминая неловкость, Анна Ивановна.
Прокурор смотрит на неё так, что пожилая сжимается в шерстяной комочек.
Прокурор опять грозит пальцем — теперь уже всем на свете.
VIII
Всё та же комната Ольги. В Подмосковье темнеет рано. Две женщины так и сидят друг против дружки. Несмотря на коньяк — ни мира, ни войны.
В дверь стучат.
— Это кто ещё? — встрепенулась Зинаида.
Ольга тоже вздрагивает и поправляет на плечах платок.
Обе подумали, что это Борис, и обе приготовились к бурной сцене: была не была — когда-то же это должно случиться!
Но поэт недаром не любит в жизни бурных сцен, оставляя, их только для стихов и прозы: это оказался не он.
В комнату, смущённо покряхтывая, вваливается Кузьмич, поношенный мужичонка в круглых стальных очках, делающих его похожим сразу и на поэта Заболоцкого, и на члена политбюро Суслова, в ватной безрукавке, в каких обычно управляются по хозяйству, и в толстых шерстяных носках с высокозаправленными в них штанинами — голландские калоши, видать, оставил в сенях.
— Вечер добрый! — здоровается, сдёргивая с лысины капелюху.
— Это ещё кто? — повторяет вопрос Зинаида.
— Кузьмич. Наш хозяин. Здравствуйте, Кузьмич, — поднимается ему навстречу Ольга. — С чем пожаловали?
Зинаида с интересом оглядывает «хозяина»: вид у него явно не хозяйский. Она давно догадывается, кто платит за этот домишко вместо Ольги.
Дед сразу схватывает ситуацию.
— Да вот, понял, что гостья у вас. Думал, может надо чего: яичек там, молока?..
Явно импровизирует на ходу.
— Не подоили ещё быка, — отзывается из своего угла Зинаида.
Мужик топчется на пороге: наверняка думал, что тут не гостья, а гость и заглянул по привычке на огонёк, то есть — на сто граммов. На дежурную чекушку.
— Если не надо, я пойду, Ольга Ивановна?
Ольга готова уже выпроводить завсегдатая, но Зинаида неожиданно ломает её планы.
— Да чего уж там! Заходи, третьим будешь.
Кузьмич вынимает из карманов своей душегрейки два роскошных, с осени сохранившихся в соломе, антоновских яблока и несёт их к столу, как несут пасхальные куличи:
— Угощайтесь, милые дамочки.
Зинаида криво усмехается, а Ольга подвигает ему откуда-то из-за угла кровати солдатский табурет, помогает снять телогрейку и ставит на стол ещё одну рюмку.
— Благодарствую. Вот не ожидал, — лукавит Кузьмич, крепко потирая холодные ладони.
Усаживается. С удовольствием разглядывает бутылку — можно подумать, что впервые видит её. А Зинаида, порозовевшая после первой, с любопытством рассматривает эту парочку: она давно догадалась, кто тут регулярно является третьим.
— Зинаида, — протягивает ему руку Зинаида.
— Кузьмич, — осторожно берёт в обе ладони её руку Кузьмич и, уже мал-мал освоившись, замечает, оглядывая обеих:
— Как-то вы очень уж сурьёзно сидите...
— А ты наливай! — приказывает Зинаида.
— С удовольствием.
Наливает действительно не только с удовольствием, но и с большой, неожиданной сноровкой. Насобачился, — думает про него Зинаида.
— Здоровеньки булы! — голосом Тарапуньки оповещает Кузьмич.
— Будь здоров и не кашляй!
— Где он может быть? — говорит Зинаида, твёрдо ставя бокал на шаткий столик и требовательно, в упор глядя на Кузьмича.
— Где вы ещё выпиваете с ним?.. Ну, за исключением того дома, — добавляет. — В фадеевском шалмане?..
Кузьмич, конечно, смущён, но уже первая рюмка добавляет ему смелости.
— Мы не выпиваем, — он же у вас непьющий... Малопьющий, — поправляется. — Мы с ним беседуем...
— О чём же это вы с ним беседуете? О бабах, что ли?
— О всяком-разном. Бывает, что и об вас. Но чаще — о жизни.
— Ну да, если о бабах, то это и есть — о жизни. Жизнь происходит от трения. И всё-таки, Кузьмич, — меняет тон на просительный, человечный, а не дамский. — Ты наверняка знаешь больше, чем говоришь. Где искать его?
Кузьмич молча наливает ещё по одной, а затем вдруг совершенно трезво, хотя и негромко, произносит:
— В КЭГЭБЭ...
Доселе молча сидевшая Ольга вообще каменеет. Зинаида грузно откидывается на спинку стула. Зрачки её расширены от ужаса.
— Где? — шёпотом переспрашивает.
— Да всё в порядке с ним, спохватывается, что сболтнул лишнего.
— С чего это вы взяли? — шёпотом спрашивает очнувшаяся Ольга.
— Примета есть такая, — прищуривается Кузьмич, приноравливаясь к рюмахе, — топтуна нету, значит, всё в порядке.
— Какого топтуна? — ещё больше напрягается Зинаида.
Ольга молчит.
— А вы что, дамочка, не знаете? Первый раз замужем? Он уже лет пять, как за вашим хозяином топчется. Вся округа его уже знает. Мы даже пару раз выпивали вместе. На троих, — усмехается Кузьмич. — А нынче он вдруг исчез. Примета есть, — идёт по второму кругу.