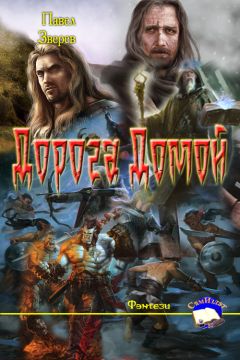Иван Булах - Курортный роман
— Не сердись. Что, я должна всем звонить, что у меня есть? Помнишь у Гоголя: «Полюбите нас черненьких, а беленьких нас и так полюбят».
— Тань, а скажи честно, чья машина? Только честно. Не ври. Я же тебя полюбил не из–за машины.
— Отец подарил. Я же тебе говорила, что у него свое дело.
Договорились — в среду едем в город. К двум, как и условились, выхожу и жду. Я‑то думал, у нее задрипанный «Жигуленок», а тут подкатывает иномарка, я и названье ее не знаю. Руль справа, все блестит, стекла затемнены… Татьяна дверцей «хлоп», а сама в брючках, в свитерке, — и ко мне. Наш санаторий, все, кто прогуливался, аж рты от зависти раскрыли. Батюшки! Мне–то тут какая роль? Содержанта или прихлебателя?
— Тань, а кто в доме хозяин?
— Что–то не так?
— Я за руль, а ты сбоку. Что я, ущербный какой–то, чтоб меня женщина возила?
— Садись, садись.
Наши санаторские в толк не возьмут, кто она? Жена или личный шофер? Думайте!
Сели. А сам впервой на таком самокате.
— Скорость–то хоть как включать? Как на наших?
Чуть отъехали, я ей и говорю:
Не могу. С непривычки аж вспотел, да и прав с собой нет. Садись сама за руль.
Смеется.
В отделе сувениров я раскошелился и купил ей пустяк, дымковскую игрушку. Небольшая скульптурка, парень растягивает гармошку. Забавная такая. Татьяна аж прослезилась:
— Спасибо. Честное слово, это память на всю жизнь. Это вылитый ты, только рубашка в горошек, — а сама тут же выбрала небольшой портретик, нашу русскую гордость, боль и тоску — Серегу Есенина. Такой дорогой образ с пьяным чубом и трубкой.
Долго стояли у домика Василия Макаровича. Музей был закрыт. Стояли, смотрели на изгороди, избы, заснеженную Катунь, гору Пикет. Думалось: «Откуда и как выпала такая судьбина простому деревенскому парню из глухой деревушки на обочине Чуйского тракта? У них и в роду–то не было белой кости, а гляди ж ты, выплеснул, выстрадал и показал наше неброское, житейское и такое родное.
А сколько их, выходцев из Сибири, заявили во весь голос о себе? А сколько еще по таким вот деревушкам талантливых самородков? Тут еще невостребованный нетронутый пласт. Дай им раскрыться. Сделай им огранку, и они засверкают на всю Россию. Я горжусь сибиряками и счастлив, что они жили и живут с нами: Пырьев, Золотухин, Черкасов, Астафьев, Титов, Распутин, Шукшин…»
И снова курорт.
В окно светила луна. Из красок было две и делили на черное и белое без полутонов горы, лес, снег, пятна фонарей. Изредка прошелестит машина, и снова тишина.
Кончается праздник, да и не может он длиться вечно, а если б длился, то это была бы тоже скучная праздничная жизнь. От слишком сладкою и приторного тошнит. Такова жизнь, и принимать ее надо такой, какая она есть.
Сердце щемило, да так, что уж лучше бы и не встречаться.
Бодрюсь, балагурю, тяну меха, а оно само выходит:
Ямщик, не гони лошадей.
Мне некуда больше спешить.
Мне некого больше любить.
Ямщик, не гони лошадей!
Смотрю, Татьяна отвернулась к окну, плечи вздрагивают.
— Тань, ты че? Держи хвост пистолетом!
— Да это тушь побежала… Не смотри, я сейчас… — пошла умыться. Идет, через силу улыбается, а у самой губы дро
жат. — Я еду с тобой. Довезу до города, а там вызывай машину, а я домой.
— У тебя же еще три дня по путевке.
— Нет! К черту. Я уеду. Не могу. Когда мы еще встретимся? Ты только скажи, когда и где, а я все сделаю, я сразу прилечу.
— Не знаю, врать не буду. Я позвоню, телефон у меня твой записан.
Молчали. И была ночь. И было хорошо и грустно… —
Не люблю расставаний. Даже когда только встречаемся, меня уже отравляет мысль о разлуке, а когда остается четыре, три, два дня — это мука. Виду не подаю, завожу других, дурачимся, а Татьяна как рентгеном режет:
— Ты не храбрись, я же вижу, ты тоже переживаешь. У тебя глаза как у больной собаки.
— Черт бы побрал тебя за такой комплимент.
Все. Хватит. И так душу разбередил. Подвожу черту.
И вот я дома. Рвется с цепи Амур, привычно поскрипывают ступеньки крыльца, щелкает замок.
Дома никого, хотя уже стемнело. Зажег свет, включил телевизор, попил чаю:
— Куда вы подевались?
Лег спать. Задремал. Слышу на кухне разговор. Вроде жена с соседкой судачат.
— … а я ему так и сказала: «Хватит. Отъездил. Я тебе не мужичка, чтоб и за скотом, и по дому одна, а ты на курортах прохлаждаться будешь».
— Правильно, — подъелдыкнула соседка. — Вон Золотарев с маслозавода доездился. Подцепил какую–то вертихвостку — и прощай, Маруся. Кобель! Детей бросил, дом, работу и за юбкой подался. Правда, и сама Маруська змея змеей. Вечно он у нее неухоженный, голодный, — тут соседка рассмеялась. — Слышь–ка, бабы говорят, как он с курорта приедет, она его раздевает и начинает дознание. Сперва санаторную книжку проверит, и если какую процедуру не докончил: «Где был? С кем таскался? Кобель!» Потом его изучает. И не дай бог где царапина или пятно, сразу: «Это кто тебя так взасос целовал? Кобель!» Билеты сверит с путевкой, отметки об убытии, а потом воды в ванну напустит и сажает его голого…
— Зачем? А–а–а! Что тонет, что всплывает!
Засмеялись.
Пошел в кухню. Здороваюсь.
— И мне в ванну садиться?
— Заслужишь, и посажу.
— Ну как вы тут без меня? Корова еще не отелилась? — а сам воды зачерпнул и пью, горит все внутри. Переживаю.
Они переглянулись и захихикали.
— Колька давно уехал? — Молчат, а жена на меня уставилась и перестала хихикать. — Я там подарки привез: Кольке джинсы, а Надьке колготки ажурные, импортные…
Вижу, с женой что–то непонятное.
— Ты че, Вась, тронулся? Куда Колька уехал? Он еще и не приезжал. Какие подарки? Ты че мелешь? Спятил, что ль? Или ты придуриваешься, из себя больного корчишь? Если у тебя что–то с головой, так тебе не курорт, а психушку надо.
— Ты это серьезно?
— Ну артист! Корова отелилась? Сам убрался, сена дал, напоил и спрашивает: «Отелилась?» Я тебе сказала еще утром, если Колька приедет, то будет тебе этот гребаный курорт.
— Вы че меня разыгрываете? Да я уже вернулся с курорта… там подарки…
Жена как с больным или пьяным:
— Вот и хорошо, что съездил уже, и подарки хорошо… А ты, часом, не Наполеон? Нет? Ну тада давай подарки.
Что за чертовщина? То, как приеду, она все обшарит, обнюхает, отлает, а тут что–то не так. Кинулся к чемодану, перетряхиваю свое барахлишко. Что такое? Нет ни джинсов, ни колготок. Зубная паста целая, рубашки, носки — все чистое. Неужели это мне все приснилось? Да не может быть!
Может. Жена заливается, соседка кудахчет:
— Ох, умора! Еще не успел уехать, а уже: «Здравствуйте! Получайте подарки!» — и смеется.
Смотрю, а на дне чемодана портрет Сереги Есенина с трубкой. Да не может быть!
Да неужели я раздвоился во времени? Господи! Если это так, то унеси меня туда, в то измерение…

![Иоанна Хмелевская - Корова царя небесного [Божественная корова]](/uploads/posts/books/161708/161708.jpg)