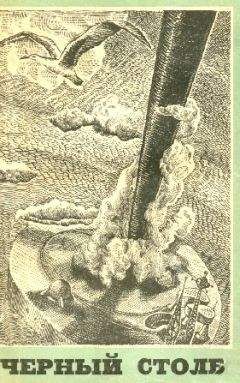Филипп Берман - Регистратор
На самом деле, Илья действительно сватался сначала за Лизу, Соня помнила их первый приезд с его отцом в их дом, но потом сватовство не состоялось, и никто не знал, что было и думать, кроме Сони и Ильи, которые все уже знали тогда о себе; когда он только приехал, Соня вдруг почувствовала необъяснимое волнение, это будто она должна была тогда свататься, а не Лиза, волнение сначала шло от того, что это был почти уже муж ее сестры, что, начиная с этого момента, сестра ее вступала в особые новые отношения с жизнью, что появился мужчина, который теперь уже станет жить в их доме и как бы станет частью теперь всех, он как бы становился теперь и ее частью, будто бы у нее появлялась особая близость с ним, вот что у нее было; когда они приехали, Соня, счастливая и торжественная, сидела за столом и от нее исходил свет; но главное было другое, она уже знала, что он станет ее, а не Лизиным мужем; все это вспомнив, она выбежала на улицу, во дворе стояла телега, действительно приехал уже ночью, только не Илья, а Иосиф, и тут же она увидела его, он сидел на пороге своего дома и курил и, обняв его, и плача, сидела Лиза.
По улице, несмотря на ночь, шли люди, кто как мог, катились подводы и стоял какой-то особый молчаливый шум движения, кто-то иногда покрикивал, подгонял, Соня подошла к калитке, снаружи, от дороги, отделяли дом, кроме забора, еще и кусты, и ей казалось, что люди только всплывали над кустами и исчезали, но кроме молчаливого поспешного движения повозок, лошадей и узлов, вместе с ними, над городом двигались будущие несчастья; одни из тех, кто шел мимо Сони должны были умереть уже через два дня от бомбежек, другие попасть в плен, третьих дорога вела в Бабий Яр; четвертые потерять своих детей; пятые остаться без ноги; шестые быть убитыми под Москвой; теперь и вместе с тем, что пронеслось перед ней она знала, что уже никогда не увидит Илью, теперь кончалась старая ее жизнь и наставала новая, ее еще не было, еще не было ничего, кроме горя, с этого и начиналась ее новая жизнь; Соня оглянулась, рядом плакала Лиза. Теперь, может, и не доживем увидеться больше? сказала Лиза, в доме горел свет, Тоня бегала по дому, собиралась, муж упрашивал не брать ничего, но она кричала, искала свои платья, сшитые специально ко дню рождения Ривы, туфли, блузки и постепенно набралось уже три чемодана. Рива была в мать, тетю Лизу, тоже очень красивая, с большими чисто еврейскими глазами, волосы она заплетала в косу, волосы были светлыми настолько, что их можно бы назвать даже русыми. Лиза была старше Сони на семь лет, Соня с восхищением всегда смотрела на Лизу, которая имела особую стать, шила всегда все у лучших портних и выписывала шляпы из Киева, и к ней нужно было иметь особый подход. Когда Соня выросла, то вся стать Лизы перешла к Соне, но в ней еще была и мягкость, особая походка, она не думала, как ступить, как поставить ногу, как повернуться, все это было в ней от рождения, как что носить, в ней светилось счастье новой жизни. Такое же отличие было между Ривой и Тоней, Тоня только была быстрее в движениях, в отличие от тети Лизы. И Рива скорее была похожа на Соню, чем на мать, потому что в ней тоже была Сонина мягкость и естественность движений. Тоня же походила на отца, Иосифа, быстрая, большая, даже громоздкая, нервная, в свою бабушку со стороны Иосифа — бабушку Сурку. Про бабушку Сурку рассказывали историю, как она когда-то мужественно сражалась с бандитом среди ночи, он тянул ее чемодан в окно, а она держала его с другой стороны, била вора палкой, и в конце концов отбила.
Теперь Илья уже не шел, а бежал, бежал, как мог, с отдышкой, с тяжестью. Он не дошел до Винницы, потому что там уже были немцы. Илья повернул обратно, скрываясь, лесами бежал обратно в местечко к отцу, к матери, чтобы, может быть, еще успеть уйти. Румыны как вошли, так и ушли, никого не тронув, и Илья видел, как евреи сходили с ума от счастья, что они остались живы. Но сразу же вошли немцы, всех евреев согнали в одно место, говорят, что шел косой дождь, их заставили рыть себе ров. Илья рыл вместе со всеми, среди криков, поспешно, и все шептал и шептал те же молитвы, что шептала Соня, сидя во дворе у Лизы, рассказывают, что в это время Лиза вместе с Ривой были запряжены в телегу для того, чтобы возить бочки с водой для немцев, немцы устраивали баню, рассказывают, что в это же время, некий Дремлюга показал немцам, где скрывались евреи Левины, Левиных нашли и расстреляли вместе с теми, кто их скрывал, скрывал их Иван Приходько, Дремлюга жил еще довольно долго, когда ушли немцы, когда кончилась война, все знали, что он показывал немцам, где скрывались евреи, но когда кто-то из евреев попытался начать против него дело, власти предложили ему молчать, если он дорожит своей жизнью, работой и жизнью своей семьи; в это время Соня бежала с Митей и Надей в бомбоубежище, которое было устроено в подвале домоуправления, и когда они бежали туда, отец Мити, Илья, рыл вместе со всеми ров и шептал молитвы, и все они теперь молились одним голосом, голосом уже умерших людей, и он уходил в небо, и Илья видел, как евреи сходили с ума, как они разговаривали перед тем, как упасть в яму, и шел, шел долгий дождь под крик немцев, Мойтек в Москве стоял всю ночь, ждал, когда откроется военкомат, чтобы уйти добровольцем, когда же открыли дверь военкомата, он крикнул: да здравствует Сталин, Илья заметил в стороне между всеми, кто рыл ров и уже сошел с ума, и немцами, кто-то появился, но немцы его не видели, он прошел быстрой походкой к их рву, коснулся рукой Ильи, когда шел мимо и исчез за деревьями, Илья не помнил больше ничего, он только старался быть рядом с матерью, рядом с отцом, который все твердил, что это не для них, что немцы умный и цивилизованный народ, это только не для них, и тогда перед Ильей встал кто-то, голос у всех исчез, из горла шел хрип, что повторял отец, Илья уже не слышал, он уже перестал слышать самого себя, но он слышал только одно: ты, или мать, или отец, или все, кто же? ты, или отец, или мать, или все? ты, или отец, или мать, или все, ты, или отец, или мать, или все, кто же, ты, или отец, или мать, или все, и под это беспрерывное повторение у него стучало: кто же, кто же: или все? и он так и упал в ров вместе с этим стуком, к которому присоединился механический равнопромежуточный стук, упал в ров, спасенный, засыпанный горячей смертью других евреев.
Мать однажды вечером, когда отец поздно не приходил с работы, тихий оказался вечер, Митя никуда не уходил, да идти было некуда, Надя с Вовкой жили отдельно, он знал, что если придет туда, что-то там собьется уже с той жизни, которой они жили без него; на столе тогда лежала белая скатерть, отчего так стало спокойно в доме, да и не только в доме, все вдруг кругом стало тихо: оттого Митя и оторвался от книги — вдруг оглянулся и тут же оказалась мать и долго смотрела на него, на Митю, таким пронзительным, уходящим за него взглядом, будто просвечивало его и стены их дома, и мать тогда сказала Мите: я знаю, где отец (уже давно кончилась война, уже все давно кончилось; его, Митина одна жизнь, тоже кончилась, когда он был когда-то с Надей; после их развода, после связи с этой сучкой Валентиной, все это уже прошло мимо, и вот они так сидели тихо, и вдруг мать тоже тихо это сказала), но не было в ее тоне ни сожаления, ни горечи, все либо перегорело давно, либо другое; что же другое, думал Митя, а другое было вот что: что мать все это видела раньше! мать это видела, и видела все, когда вдруг так становилось тихо кругом, далее она продолжала, что вот теперь она может и ему сказать об этом, потому что он должен знать, что вечно она жить не будет, и он должен был знать, вот, эта жизнь шла потоком, а вот что была и тайная жизнь, вот что она говорила тогда Мите, вот сейчас я все вижу, все знаю вперед, но я знаю, что потом я все это забуду и буду мучиться вспоминать, и не знаю, что буду вспоминать свою тайную жизнь, и что есть один человек, который всегда приходит, никто его не знает, кроме нее, и он ей говорил про Митю, что и он, Митя, тоже такой же, как и она, что с ним тоже это будет, поэтому она его и предупреждает, чтобы он, не дай Бог, не прогнал бы это, потому что это прекрасно! это было так чисто, так хорошо, такая цельная жизнь, что-то главное, одним словом, все иначе, поэтому, чтобы он, Митя, не пугался бы, и вот тут же, она и рассказала, что не боялась, что отца убьют, она все видела и знала, как он выходит из могилы, но что за это знание ее нужно было всегда платить чем-то, чем-то таким тягучим родным, за то, чтобы Илью вытащить из этого рва, словом, за все, а вот когда он был на фронте, она уже боялась, потому что не было сил, и еще: что бы ты ни видела, про тебя, про Митю, про Илью, всю эту чепуху, все это надо было бы отбросить, забыть, вот тогда это получалось, когда ты разошелся с Надей из-за этой сучки — Валентины, я же тебе говорила, Надя, у тебя всегда будет стоять перед глазами, будет стоять перед глазами твой сын, все это, да, повторяю, что все это, детские ботиночки, так говорила моя мама, киндерши шихэлэх, то есть все это игрушки детские, печальные, грустные, и я это тоже все видела, и твой конец с Валентиной, и ее подружку Алену, к которой ты тоже шлялся, я даже могу тебе сейчас, когда ты находишься на своих собственных развалинах, на развалинах своей собственной жизни, сказать, как ты познакомился с этой Валентиной снова, если не считать твоего страшного детства, как она пришла к вам в дом, вытащила тебя из твоего собственного дома, мерзавка, но я это уже знала, и так печально было все, я опять тогда вдруг, когда я забыла тебя, когда жизнь ваша развалилась с Надюшей, я одна как-то сидела, и вдруг стало тихо так, и снова о и пришел, я вспомнила себя, как я купалась в реке, и вдруг из воды вышел высокий рыжий человек, ну, что я тогда была? девочка, и рассказал мне всю-всю мою жизнь, и про Илью, про вас, господи, и про тебя с Валентиной, про Надюшу, и после этого стал приходить этот человек, тогда это было не часто, а потом, когда забрали Мойтека, я его увидела снова, я его просила, и он пришел, потом, когда началась война, и я увидела, что было с Ильей, и я тоже просила, и он мне сказал тогда, вот это не все могут, а вот ты можешь, и тут он мне сказал такое, отчего я это могу, я же видела все-все, когда я так вижу, все смешивается вместе, представь себе, что муж этой Валентины, твоей сучки, первый муж, когда ты лежал в больнице сам, после того, как привез ее из роддома, так вот этот муж приходил тогда и смотрел на вашего с Валентиной ребенка, на твою дочку, и тогда же остался у нее, и с ней спал, при только что родившемся ребенке, тут же он пришел с вином, конечно, вроде бы поздравить, и тут же и остался. С этого дня у них и началось, так вот, Валентина пришла к вам в дом вместе с Андрюшей, твоим же другом, когда вы справляли твой день рождения, таким высоким, угреватым, с большим носом мальчиком, у Валентины ведь был вывих на какие-нибудь несообразности, Андрюша ей нравился, потому что выглядел по-детски, хрупко, нежно, несмотря на большой свой нос, она же была со своим уже хорошим женским опытом, но увидев тебя, она как-то отдала предпочтение твоей громоздкости, сразу в ней проснулась самочка; но все это тоже из того потока, и чтобы это все ушло, надо вот что: надо отбросить, потому что есть главное, вот когда к этому главному возвращаешься, то все все это какая-то чушь, какая-то пустая жизнь, то есть я вижу не только это, но это мешает очень; и вот что еще, мы все как бы живем двойной жизнью, нет, не все, но все равно, ты понимаешь, что я говорю, вот одна жизнь пустая, а вот другая, вот другая, как тебе сказать, просыпается иногда где-то там, очень глубоко, и это так тягуче и так по-родному, да, там надо платить, и вот ты платишь — вот такой был тогда разговор, потом сразу после этих слов стал шум, с улицы, с Садового кольца пошел такой шум, будто все сразу застоявшиеся КРАЗы рванули к Каляевской, мимо дома, где жили артисты эстрады к Самотеке, он выглянул в окно, отец шел помолодевший из парикмахерской, какой же это был год? думал Митя, как растворялась их жизнь, когда этот раствор тягчел, когда испарялся, вытекая между пальцами в никуда? И вот мать сразу стала другой, будто все сразу забыла, ушла, захлопотала, заволновалась про отца, поставила чайник, взяла «Вечернюю Москву» в руки, но не читалось, так вот и вернулась к этой жизни. Но вот Митя уже не мог этого забыть ничего и сейчас все сплелось в очень ясную картину, Валентина все говорила ему, что у нее отрицательный резус, что он может совершенно быть спокоен, что все их несчастье, как раз в том и состоит, что при всей их горячей и нежной любви она никогда не сможет иметь от него сына, или дочь, потому что судьба подарила ей этот странный изгиб природы в виде отрицательного резуса. Песни эти про отрицательный резус, конечно, не вызывали у Мити никакого сомнения, так что Митя посчитал бы даже за что-то уж очень ничтожно-мелкое просто задуматься об этом, она даже говорила, что если бы кто-нибудь бы сказал бы ей, что она выбирала способ жизни с ним, с Митей, то если бы только была одна возможность, чтобы быть с ним, например, в тюрьме за какое-нибудь диссидентство, то она бы избрала бы быть с ним, лишь бы он, Митя, был бы там, где она, лишь бы их оставили вдвоем в покое, просто быть с ним, — такой привязанности и того самопожертвования, надо сказать, бедный Митя никогда не испытывал, и когда тот же длинноносый Андрюша посоветовал быть с ней поаккуратней, в смысле детей, он специально позвонил Мите, встретился с ним на Новослободской, и так, разговаривая, дошли до МИТа, где Андрюша учился, то Митя остановился, посмотрел на Андрюшу, повернулся и пошел к метро быстро и счастливо шагая, потому что он-то знал, что все это была чушь, все это было низменно, что ни Андрюша, ни кто другой, не мог просто знать об ее к нему отношении, об их совершенно других отношениях, однако когда вдруг пришло время рожать ребенка, тут, так сказать, и отрицательный резус не помог, оказалось, что был уже второй месяц ее беременности, то выяснилось, что никакого резуса никогда не было, вот тогда-то Митя и вспомнил про свое бодрое счастливое шагание и про их совершенно другие отношения, нет, не то чтобы он мог осмелиться что-либо запретить ей, или даже приказать делать аборт, хотя позже понял, что если бы послал бы ее к чертовой матери, то она бы тогда уж крутилась бы сама, но и к черту ее не послал, и ничего ей не запретил, и вот, пожалуй, по одной какой только причине: перед ним вот какая стала картина, что должен родиться ребенок, кто будет, сын, или дочь, он этого не знал, и что вот в его руках теперь решать, дать жить этому человечку, или не дать, от того, как он скажет, так и будет сейчас, будет этот некто, пока еще пустое для него, воображаемое существо в этой жизни, или никогда так и не появиться в ней, вот в его это было силах, дать, или не дать ему или ей эту жизнь, и ты вот сам Бог, сказал ему кто-то, ты сам должен это решать, кроме того, человек этот был связан как-то с ним самим, это был его человек, произошедший от него самого, и он, Митя, должен был сам себя начать вырубать сейчас, кромсать ланцетом хирурга, тут же всплыли картинки из его собственного детства; как он знал это, он не помнил, но помнил только, что знал, что мать делала аборт дома ночью, и что искромсанное тельце его брата, или сестры потом с трудом запихивалось в унитаз, спускалось в канализацию; вместе с соседкой, которая помогала ей, они возились полночи; и вот поэтому, сказала ему мать однажды, ты и есть другой, тогда же она ему сказала, что этот человечек, которого она выбросила, потом стоял всю жизнь перед ее глазами и рос вместе с ними, с ним, Митей и с Надей, и что когда ей плохо, он, вдруг появляется и смотрит на нее, вот тогда она его и видит, он уже сейчас живет, он вырос, и он носит черную бороду; и вот, начав вдаваться в эти размышления, что значило это запретить рождение, он сразу же понял, что это он не сможет никогда, и чего бы перед ним не стояло, что бы его ни ожидало впереди, он этого не сделает; но и все остальное теперь становилось тоже неприемлемым; между прочим, однажды, когда Митя шел по Ермолаевскому переулку, во дворе, между старыми домами, он увидел такого же по возрасту человека, который был им самим, тогда Мите было четырнадцать лет, тот мальчик был такой же, как и он, по росту и лицом, будто Митя увидел себя в зеркале, но он тогда так же и прошел мимо, как мимо зеркала, только увидев себя в нем и больше ничего, и так пусто было в нем самом, будто кто-то вынул его из Него самого и поставил рядом, пусто и тихо кругом, и так Митя прошел дальше, поднялся на четвертый этаж к другу, рассказал ему об этом на всякий случай, Саня выслушал его внимательно, и ничего не сказав в ответ, врубил Глена Миллера.