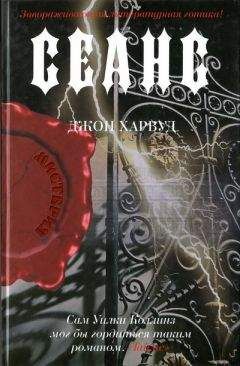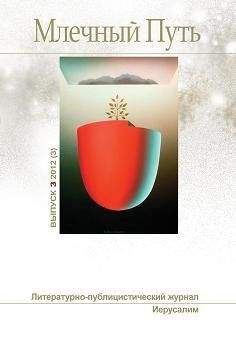Вержилио Феррейра - Явление. И вот уже тень…
Наступает такой момент, когда и фантазия — волшебное «а если» и — допустим — перестает утешать, ибо отчуждение проникает и в вымышленный мир, там разрушает недолговечные утопии Невеса, и все возвращается на круги своя — «Где мои очки?» и «Ты так постарела».
Единственным островком покоя остается комната со стеллажами. Все, что вне ее, находится в постоянном движении, ибо это «все» — сложная предреволюционная португальская действительность с назревшими, но еще не разрешенными вопросами и противоречиями политической жизни — преломляется в призме внутреннего смятения Невеса и предстает как бы не в фокусе.
Раздвоение героя позволяет Феррейре расширить поле зрения. Воображение Невеса-первого раздвигает стены и впускает в комнату современность с собраниями различных политических группировок, литературными дебатами, вернисажами, театральными и кинопремьерами. Шаг из комнаты — и начинается царство аллегории. Ирония писателя направлена не столько против конкретных партий и литературных школ Португалии, объект ее должен пониматься шире, обобщеннее — это целые направления политической и эстетической мысли на Западе.
Даже гонимый с места на место своим отчаянием, Невес не теряет способность ориентироваться, задаваться вопросами, изучать. Все посещения им собраний и диспутов включены в общий философский контекст романа. Феррейра не случайно выводит фигуру неизвестного старичка, которого Невес то и дело обнаруживает спящим во время самых жарких дебатов. Этот глухой ко всему «свидетель» символизирует позицию, неприемлемую для писателя. При всей своей иронии Феррейра отнюдь не равнодушен к тем, кого описывает: далеко не в одинаковом ключе описаны «партия лысых» в черной одежде, пугающе знакомым жестом выбрасывающих вперед руку, и «партия мускулистых парней» в рабочих комбинезонах…
В отличие от похрапывающего старичка, Невес жадно стремится постичь объективное содержание эпохи. Что же ему мешает? Невес сбит с толку, он переживает кризис доверия к лозунгам, ярлыкам, демагогическим приемам в сочетании с модными терминами — ко всей этой псевдореволюционной словесной шелухе «левейших левых». Так что неприятие Невеса (и самого Феррейры) относится не к смыслу, который вкладывают в свои слова «мускулистые парни» на собрании, а к той особенности политической жизни на Западе, которая позволяет эти слова обесценивать. Невес рад бы разделить с «парнями» их энтузиазм — но что, если завтра ему попадется юнец, «цитирующий Маркса при покупке новой машины»? Герой Феррейры сожалеет, что среди людей, «взоры которых обращены к будущему», он «так плохо видит вдаль», что у него нет их молодости и сил, чтобы дотянуться до Истории, которая для него теперь «Слишком высокого роста».
Что же касается собратьев по перу, то они — увы! — тянут правду искусства каждый в свою сторону, лишая его главного — гуманистического, объединяющего людей содержания. «Расчеловеченное» искусство — это в первую очередь творчество абсурдистов и «черный юмор», который Феррейра печально характеризует как «смех над смехом». Породить эти «огрызки смешного» могло, по его мнению, лишь «время Духовного оскудения». Комедия, которую видит Невес — смесь «драмы жестокости» и примитивного фарса, — как раз и является квинтэссенцией того, что он сам (и Феррейра) считает враждебным подлинному искусству — сочетание цинизма и отчаяния. Устами и пером Невеса Феррейра противопоставляет модернистскому «черному юмору» смех, «рожденный самой жизнью».
Феррейра подвергает критике и эксперименты структуралистов. Анализ поэтического текста, услышанный Невесом, построен как «поток означающих» и напоминает окрошку из терминов, почерпнутых во всех областях знаний — от политэкономии до психоанализа. А картина модного художника, содержание которой велеречиво комментирует гид, апеллируя все к той же «системе знаков», представляет собой просто замазанный черной краской холст.
Черная пустота картины и «голый текст», равно как и научная база, подведенная под эти произведения, начисто лишенные содержания, принципиально противоречат той задаче, которую ставит перед собой настоящий художник. Книга должна «рассказывать, ибо люди хотят знать, чтобы видеть — есть смысл или нет». Долг писателя — «быть глубоким и всепонимающим. Быть сильным», — утверждает Феррейра.
«Быть сильным» до конца старается и его герой. Но не значит ли это одиноко нести свой крест, как делал это дядя Анжело?
Не случайно память Невеса возвращается к забытому родственнику. История дяди Анжело — как бы еще один путь, еще одна возможность выбора. Рассказ о человеке, который не пожелал примириться с распадом оркестра и, оставшись в одиночестве, сам писал себе приглашения на репетиции и гордо шествовал по городу как единственный участник парада, превращается у Феррейры в экзистенциалистскую притчу. Но, включая ее в контекст размышлений Невеса, писатель дает возможность прочесть ее полемически: да, дядя Анжело выстоял, не подчинился обстоятельствам и остался верен идеалу своей свободы, которую он понимал как «свободу доиграть свою партию несмотря ни на что». Но из одной лишь партии трубы не выйдет симфонии, и ни радости, ни утешения не принесет эта музыка людям — таков смысловой итог истории этого трагико-абсурдного подвига. К ощущению ущербности такой жизненной позиции подводит Феррейра и своего Невеса.
Впрочем, есть еще позиция Милиньи: «Остановить жизнь в миг максимальной полноты», ее и Элии вера в то, что «когда-нибудь самоубийство станет обязательным». Отказ от идеалов, сформированных обществом потребления, от самодовольного конформизма, от обывательских заповедей — «откладывать на черный день, экономить, осторожничать, жаться, скупиться даже на чувства, хранить фотографии, быть добродетельным, скряжничать над полным сундуком и отправляться в могилу, так и не узнав, для чего прожита жизнь…». И желание взять от жизни все, пока есть время. Взять — и уйти. Об этом фильм, который Невес смотрит, вообразив своей спутницей сначала Элию, затем Элену. Символично двойное название картины (португальский вариант — «Вечность», название на языке оригинала — «Седые волосы»), заключающее в себе философскую дилемму: уйти из жизни «в миг максимальной полноты» или дожить до старости, когда вся притягательность существования, казалось бы, утрачена? Характерно, что Элии фильм нравится, Элене — нет.
Выбор героев картины, которые предпочли самоубийство старению и угасанию любви, не может найти отклика в душе Невеса, как не может он примириться и с тем, за что ратует дочь. В активе таких, как Милинья, лишь две возможности — «взять» или «отказаться», такой вариант, как «дать», оказывается просто вне спора… А для Невеса именно в этом слове и откроется искомая истина.
В момент отчаяния и опустошения, когда, казалось бы, человек готов отступить, сдаться без боя наступающей «тени», он все же находит в себе силы для последнего рывка: «Надвигающаяся ночь, я в ночи, слепой — что мне еще сказать? И внезапное озарение — да скажи это, скажи именно это. О том, что все кончается, о близящейся ночи, о непобедимой человеческой мечте начать с начала. Быть в вечности. Быть».
И перед вдохновенным актом созидания отступает ночь: «Книга. Вдохнуть еще раз то, что есть во мне человеческого». На пороге, за которым «уже тень», поделиться с людьми опытом нелегкой жизни, плодами раздумий, тревогой за человека — и неиссякающей верой в него. Не «уйти» и не просто «доиграть свою партию», а выстоять и, вопреки усталости и отчаянию, «творить красоту для людей». Эти строки Вержилио Феррейры объясняют выбор эпиграфа. Слова VIII Пифийской оды Пиндара:
Счастье смертных мгновенно возрастает,
Мгновенно и падает долу…
Мы единодневны. Что есть человек и что не есть?
Люди — сны тени… —
посвящены «Аристомену Эгинскому, борцу». Зная о «единодневности», краткости своего земного пути, античный герой снова и снова выходит на битву — и побеждает. Ибо не мысли о бренности, а вера в свои силы движут им, вера в «сияние смертных». И в романе Феррейры это сияние, «свет, данный Зевсом», о котором говорил Пиндар, — вдохновение, творчество — оказывается сильнее знания о смерти. Португальский писатель мог бы повторить слова, сказанные в свое время Германом Гессе, когда тот метафорически определил двумя словами суть и смысл своего «Степного волка»: «Моцарт и бессмертие».
Есть в романе одна нота, настойчиво пробивающаяся сквозь нарастающую растерянность Невеса. Это блестящая авторская ирония, не позволяющая спутать Невеса и Феррейру, допускающая возможность отстраненного восприятия лирического монолога героя: «Напиши-ка трактат о старости, увесистый том о конечности сущего и высокопарную трагедию ночи». Невес действительно напишет книгу «Сумерки», и тут наконец голоса писателя и героя сольются, потому что это будет в конечном счете не «трактат о конечности сущего», а гимн жизни, которая бренна и нелегка, но прекрасна, и человеческому разуму, способному победить смерть.