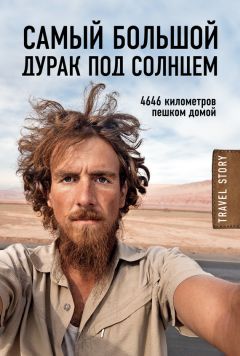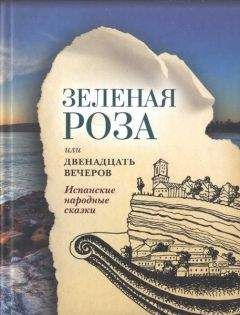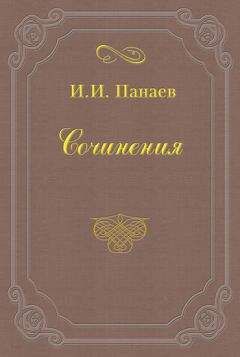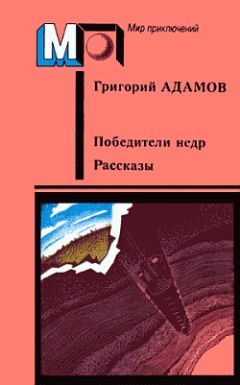Михаил Анчаров - Страстной бульвар
— Не надо больше пить, — сказала Валя первые слова.
— Понимаю, — сказал Мызин. — Намёк ясен. Санька споёт, и мы уйдём. Весенние ночки короткие.
Валя опустила голову и стала думать о своём, и стала бояться предстоящего. Она не знала, что ничего из того, о чём она думала, ей не предстоит. А предстоит ей разлука со своим мужем, которая длится вот уже девятнадцать лет, а теперь он приехал не то больной, не то признаться не хочет, и надо ему про Татьяну рассказать, что она приёмыш из детского дома, и что был у Вали муж, но не сразу после отъезда Жигулина, а ровно через пять лет, и нерасписанный был, чтоб в комнату не прописывать, пять лет был, потом Валя сказала ему:
— А теперь уходи. Больше без любви не могу.
Это десять лет. А ещё девять лет лечила, лечила, лечила и Татьяну воспитывала. Ещё несколько мужчин было, но это так, это не помнится, это — когда уж очень невмоготу. А потом — всё, стоп. Опять почему-то стала думать о Саньке Жигулине, своём законном фиктивном муже, и стала ждать его почему-то, и почему-то во сне видеть, и томиться по нему душой и плотью. Тридцать семь лет бабе. Самая пора любви. Всё, что до этого, — детский лепет. А теперь он приехал — как вызванный. Облезлый и совсем не тот.
…И наступила она, их брачная ночь. Мызины ушли, Алевтина всплакнула на плече у молодой жены, заглянула ей в глаза восторженным взглядом и вышла торжественно. А они сидели на стульях на противоположных концах обеденного стола н ждали, когда у Мызиных замок щёлкнет. Потом они услышали мерное буханье и испуганно подняли глаза, и мысленно поговорили друг с другом.
— У вас здесь поезда близко проходят? — спросила она. — Стук-стук, стук-стук…
— Нет, а что… Нет, это не поезд… Это похоже на часовой механизм, как на мине… Ну да, факт… Мы идиоты, это…
— Я знаю… — сказала она.
Это кровь у них стучала в висках.
— Если я к тебе сейчас пристану, меня никто к ответственности не привлечёт. Я муж, — сказал он.
— Я знаю, — ответила она.
— Может быть, пристать?
— Как хочешь.
— А ты?
— Не знаю… Наверное, да…
Они бы ещё долго так молчали, но тут она скрипнула стулом, и он очнулся.
— Спать хочешь? — спросил он.
— Нет, — испуганно сказала она.
— Я тоже, — быстро сказал он. — Ну, что делать будем?
— Не знаю.
— Я утром уеду, — сказал Жигулин. — А ты здесь живи.
— Ладно.
— А ты строй университет, ладно?
— Ладно. Я в медсёстры пойду.
— За Мызиных держись. Они хорошие. Они с нами дружили… С Жигулиными… Теперь я один из всех Жигулиных остался.
— Нет, — сказала она. — Не один.
— Этот брак фиктивный.
— Нет, — сказала она. — Не фиктивный.
И тут с ними что-то случилось. Они вдруг кинулись друг к другу и стали целоваться как сумасшедшие.
— Ты меня любишь? — спросила она.
— Не пойму, — ответил он.
— Ты правдивый, — сказала она. — Это ужасно.
— Что же мне, врать?
— Это ещё хуже.
— Я тебе напишу, — сказал он.
— Конечно… Ты чего-то боишься?
— Сядь, — сказал он.
Они сели на свои стулья. Между ними стол. Как ринг.
— Раунд третий, — сказал он.
— Что? — спросила она.
— Ты хочешь, чтобы был дом?
— Да.
— Мама от этого умерла.
— Не понимаю, — сказала она.
— Мама меня ждала, — сказал он. — Сердце не выдержало.
— В войну все ждали.
— Война два года как кончилась.
— Я понимаю…
— Ну вот… А я всю жизнь буду взрывать. Это моя профессия. Я другого не могу и не буду. Всю жизнь, понимаешь?
— Нет.
— Сапёр ошибается один раз — слышала?
— Слышала.
— А мать и жена — тысячу раз. Как письмо задерживается — так им чудится взрыв. Понимаешь?
— Понимаю.
— Это нельзя вынести, нельзя выдержать.
— Можно.
— Ты дурашка, — сказал он. — Я тебе писать не буду. Я приеду, ладно?
— Ладно.
— И ещё — отец и мать купили две пластинки патефонные, одинаковые. Утёсов поёт. Представляешь, они умудрились их сохранить. Отцову пластинку Мызин из госпиталя привёз, представляешь? Города дыбом, а две пластинки сохранились… «Как много девушек хороших, как много ласковых имён, но лишь одна из них…» Давай возьмём по пластинке?
— Давай, — сказала она.
Господи, какая она была дура! Господи! Она ж ничего не понимала тогда! Он же мальчик был, он семьи боялся, он любви боялся, он её боялся, он себя боялся — он боялся, что всё навалится на него — домашнее, тёплое, скучное, а он живой остался, и перед ним мир огромный, где его встречают как короля и спасителя, сапёра-минера. Он, когда на проклятое своё поле идёт, должен про дом забыть, иначе страх, а страх — это смерть. А если он про дом забудет — дома смерть. Ведь это и в любой работе так, где работает энтузиаст, человек, который заполнен делом не для себя, а тут то же самое, только очень сильно выражено, чересчур сильно выражено — будь оно проклято, это чересчур! Всё плохо, что чересчур, бабушка говорила: «Чур меня, чур», — заклятье от беды, а чересчур — это и есть беда.
— Терпел, терпел, но всё же скажу: разочарован я, понял, — сказал Мызин. — Молчи… Всё я, конечно, понимаю. Жизнь для взрослых — мечтания для малолеток. А всё же на донышке было, а вдруг выгорит у них? А вдруг я тогда недаром на твоей свадьбе стаканы бил?.. Ведь чудо какое — двое встретились на земле.
— Не встретились, — сказал Жигулин.
— Врёшь! Встретились! Вот мы с твоим отцом больше не встретимся. Я с Алевтиной не встречусь… Отец твой с мамой тоже не встретились… А вы тогда встретились, да мимо проскочили с разгону… Я думал, может, у вас выгорит — возвернётся и моя молодость… «А молодость, — запел Мызин, — не вернётся, не вернётся вона…» Пришиб ты меня, Жигулин… Ладно, давай пой… которую я тебя учил.
— Я забыл, — сказал Жигулин.
— Забыл?! Отцову песню забыл?! Пой!
Жигулин запел. Остановился и сказал:
— Жизнь только начинается. — И закрыл глаза. А потом открыл глаза, заговорил, заплясал, запел — выступать начал. А потом замолчал на полуслове.
— Сапожники! — крикнула Татьяна. — Звук пропал.
Ну, запел Жигулин песню и спел её до конца. А когда кончил петь, сомлел, а потом и вовсе отключаться начал.
Жигулин любил, когда человек старше его. Он тогда… Ах, да мы про это уже писали…
— Ах, не надо было пить…
— Петь не надо было… — сказал Мызин.
Гости у Валентины Михайловны. Чистенько всё так и негромко. Музыку слушают вполслуха, обыкновенную, без воспоминаний и ассоциаций, складно так, и никакого надрыва.
— Картошки ещё подложить?.. Ешьте, пока горячая.
— Рассыпчатая. И селёдочки, пожалуйста. Что это вы весь вечер будто волнуетесь? Или это у меня такое впечатление?
— Нет, я действительно волнуюсь неизвестно почему, — отвечает Валентина Михайловна.
— Примите полтаблеточки седуксена, у вас есть?
— А грибочки вам не понравились?
— Чудные грибочки… Ну, ваше здоровье.
— Мама, у Мызиных свет погасили.
— Татьяна, иголка шипит на проигрывателе, не слышишь?
— Ну, по последней, да будем двигаться.
— Приходите ещё.
— Разрешите, Валентина Михайловна, я вас завтра навещу?
— Идём, идём, навещу… Пить надо меньше. Валя, вытри щеку, я тебя краской вымазала.
— Мама, а к ним «неотложка» подъехала.
— Ну почему непременно к ним? Подъехала к их подъезду, и всё. Всего доброго… Счастливо… Татьяна, сними трубку. Телефон звонит, не слышишь?
— Мама, тебя… Скорей…
— Алло, кто? Мызин, что с ним? Не петь, пить не надо было. Сейчас иду.
И трубку тихонько кладёт.
— Ну вот… наконец и понятно, почему я весь вечер сама не своя… Таня, спать. У меня вызов.
— Мам, я с тобой…
— Спать!
— Мам, а кто этот дядька?
— Если бы я сама это знала… — говорит Валентина Михайловна.
И бегом, вниз по лестнице, по гулкой, потом через пустой ночной плац между двумя корпусами, а они — как два парохода на реке, потом в подъезд — и квартира первого этажа, где Мызин беснуется неподвижно, и доктор укол делает, и Жигулин без сознания.
— Допрыгался Сан Саныч… — говорит Мызин.
— Он кто вам? — спрашивает её доктор. — Муж?
— Что вы… Он приезжий… Что вы прописали? У меня всё есть, я врач…
Вот эта песня:
Ты послушай, братишка,
Легенду одну.
Про Великий десант,
Про Большую войну.
Было двести друзей
У отца твоего.
А из них не осталось
Почти никого.
(Это медленно, мажорно-запевно, похоже на старые казацкие песни. А дальше ритм и темп песни меняются и становятся быстрыми и грозными.)
Были — ночь штормовая
И двести ребят.
Были — рёв дальнобойных
И разрывы гранат.
Были лютые ветры
И крики во мгле,
Двадцать два километра
По Малой земле.
Двадцать два километра
В тылу у врага,
Только волны кровавые
Бьют в берега.
Только смерть и металл,
Только кровь и песок,
Только потом просоленный
Хлеба кусок.
Сотня вымпелов с ходу
Врывается в порт.
Парни в чёрную воду
Шагают за борт.
Только залпов раскаты,
Да крики «ура!»,
Да хрипят на закате
Мои катера.
Это пламени вой
И осколочный визг.
Это новой России
Новороссийск.
Это в скалы Мысхако
Пришла тишина.
И запела морзянка,
Как в песне струна.
Восемь месяцев смертью
Хлестала война.
На кровавых тельняшках
Цветут ордена.
Подхватила их
Воинской славы река —
Рядового матроса
И члена ЦК.
Запевают ребята
Про крейсер «Варяг».
Бой уходит на запад.
Заплакал моряк.
Станет дочка невестой,
Мальчишка — бойцом,
Вспомнят песню они,
Что пропета отцом.
Шли дорогой рассвета,
Всё старое — прочь:
На кровавой планете
Кончается ночь.
Шли, не зная покоя,
От земли к небесам.
Вот сынок, что такое
Великий десант.
Тут Жигулин кончил неслышно петь песню, и открыл глаза, и увидел вдруг два женских лица на фоне матовой лампы.