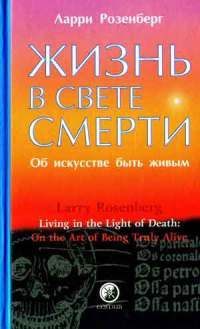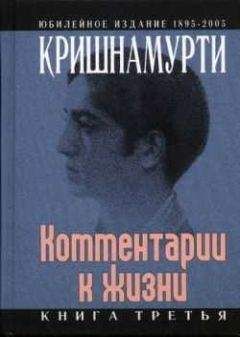Народные сказки - Зеленая Роза или Двенадцать вечеров
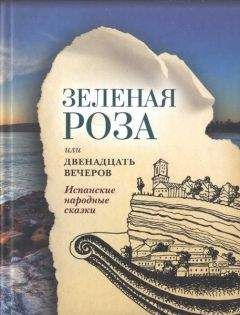
Обзор книги Народные сказки - Зеленая Роза или Двенадцать вечеров
Зеленая Роза или Двенадцать вечеров: Испанские народные сказки
Испанская сказка
Вступительная статья А. Гелескула
Испания начинается с детства. Еще неведомо, какая она, эта Испания и где находится, а при одном ее имени уже представляется выжженное нагорье и два нелепых, полупомешанных и так полюбившихся человечеству странника — один на кляче, другой на ослике. В свое время Юрий Олеша, собираясь инсценировать «Дон Кихота», счел это безнадежным, поскольку с героями ничего не происходит, — «только нападения и драки». Это в книге-то, где чего только ни происходит, — смешного, страшного, горького, величавого, — где жизнь бьет через край, как, может быть, только у Шекспира? И все же, в чем-то Олеша прав. Жизнь клокочет, но два странника недоуменно терпят ее ожоги, а сами движутся как-то мимо нее, по касательной, своей никому не понятной и недоступной дорогой. И по дороге… рассказывают друг другу сказки. Это несерьезное занятие и есть то единственно важное, что с ними происходит. И самое удивительное в романе — не сражения с мельницами и химерами, а то, что два злосчастных, безрассудных выдумщика — единственные по-настоящему счастливые и преданные друг другу люди в разобщенном и поголовно несчастливом мире.
Сказки у них разные. У злополучного рыцаря — вычитанные из книг (напиши «Дон Кихота» Гоголь, наверно, рыцарские романы сменили бы Вальтер Скотт, Марлинский, а может быть и Гофман). У злополучного оруженосца — сказки народные. Вообще-то Санчо больше говорит пословицами и поговорками, но нередко пословицы и поговорки кажутся семечком, из которого в любой миг может вырасти и расцвести сказка.
Народная сказка — крестьянка; она родилась в поле и росла в общении с природой и соседями; сказочные принцы и принцессы быстро обнаруживают свое, в лучшем случае слободское, происхождение. Сейчас, на рубеже тысячелетий, крестьяне остались, и то не везде, кормильцами городских дармоедов, но перестали быть сказочниками. Грустно, но это так — народное искусство чахнет, деревни умирают не только в России, крестьянство исчезает или неузнаваемо меняется. А старые сказки живы. Почему? Чем они живы, зачем нужны? Добрым молодцам урок? Не всегда и не так уж часто. Сказке претит прямолинейная мораль. Да, она не жалует предателей, скряг и, конечно, злодеев, особенно если те наделены властью и силой, но любит плутов, пролаз и вообще людей дерзких и находчивых — словом, тощим добродетелям предпочитает упитанный грешок. Быть может, единственный ее урок — к счастливому исходу ведут немыслимые испытания. Но почему исход обычно счастливый? Чтоб не пугать на ночь детей? Сказка противится всему расчисленному, предопределенному и неподвижному. Мир полон бесконечных возможностей, и судьба — тоже. Она не уготована нам неотвратимо и может, если не сидеть сложа руки, измениться самым чудесным образом. Сегодня лягушка, завтра — царевна. Сегодня ты свинопас, завтра — король, и никакой общественный строй не в силах помешать этим причудам, веселой игре жизненных водоворотов. Сказка, и не только волшебная, живет верой в чудеса. «Чему бы жизнь нас ни учила». Вера в чудо изначальней и долговечней веры в справедливость, и пошатнуть ее куда трудней. Отрадно, когда добрый оправдан, а злой наказан, но это ведь тоже из области чудес — и не только в сказках.
Чтоб не навеять скуку, отвлекусь от общих рассуждений и лучше поделюсь воспоминанием. Как-то я коротал вечер на одном из вокзалов Вологодчины. Зал был набит, на лавках и на полу люди ждали поезда, гадая, сумеют ли на него сесть. В углу, на груде цыганского тряпья подремывал мрачный бородач, а по залу бегали двое цыганят, мальчик и девочка. Они гонялись друг за другом и кувыркались на затоптанном, заплеванном полу, как на лугу, не замечая людей, словно прибрежные кусты. Цыгане это умеют. Не замечать никого учатся с детства. Дом кочевника вырастает в первые же минуты привала, и походный цыганский дом, где бы ни довелось его увидеть, на пристани или на вокзале, прозрачен снаружи, но изнутри непроницаем. Этот, однако, приоткрылся.
Разгоняя скуку и молодую кровь, дети добежали до цыганских тюков и свалились на них. Вдруг оттуда вылезла клюка и стала, наподобие шпаги, тыкаться в цыганят. Те слаженно заревели — не от боли, а на всякий случай. И тогда из кучи тряпья возникла старуха, очень тучная, очень страшная и, пуще того, злая. Цыганята усилили рев, а бородач и его мать (или теща) начали пререкаться. Он бубнил, она сипела, и разобрать можно было только его укоры: «Насул! Насул!» («Нехорошо!»). Разгневанная старуха, опираясь на клюку и трудно переставляя больные ноги, поковыляла в соседнее помещение, к буфету, а бородач сгреб детей и стал им что-то выговаривать. Так показалось поначалу. Но дети притихли мгновенно и как-то слишком охотно, а с бородачом начало что-то твориться. Он оживился, даже стал размахивать руками: его застуженный, прокуренный голос обрел гибкость, богатство интонаций, он то повышался на октаву, то снова падал. Дети не шевелились, как замершие зверьки, и только поблескивали черными угольками, а родитель на глазах молодел, менялся, превращался в ребенка. Он рассказывал сказку!
Голос креп, и можно было уже расслышать отдельные слова — «бэнг» (черт) и «чон» (месяц); сказка, похоже, близилась к апогею. И снова возникла старуха, все так же трудно переставляя больные ноги. В одной руке по-прежнему была клюка, но в другой — кулек дешевых леденцов.
Когда рассуждаешь о сказке и вспоминаешь эту нечаянно увиденную частичку чужой жизни, вряд ли счастливой и наверняка нелегкой, кажется, будто любовался птицей и вдруг набрел на ее гнездо.
Испанские сказки, говоря академически, входят в семью европейских, но у всех на свете сказок есть и своя малая родина, всегда одна и та же — домашний очаг, островок тепла и света в темном и порой беспросветном мире. Средневековые крестьяне в пору бесконечных войн, столетних, тридцатилетних и прочих помельче, бросались при виде озверелой солдатни к очагу с бессменно подвешенным котлом, таким же бессменным, как образок на стене. Старики, женщины и дети припадали к этой кухонной утвари в жалкой надежде, что домашний чугунный бог защитит и спасет. Так припадали к алтарю те, кто укрывался в церкви от беззакония или неправого суда. Об этом повествуют историки, утешаясь тем, что по ходу прогресса суеверий стало меньше, а нравы якобы смягчились. Мир, однако, не стал лучезарней. Не стал он и просторней. Напротив, плотность давления на человека растет, а степени свободы сокращаются, но по-прежнему очаг, это хрупкое убежище, остается знаком сопротивления и независимости. Не важно, цыганский это костер на речном откосе или такая цитадель, как русская печь. Домашнему приюту и обязана своей теплотой и живучестью сказка — «самое удивительное, нежное и простое, что есть в литературе», по словам уже упомянутого сказочника. Сам Юрий Олеша, впрочем, не считал себя таковым. По его убеждению, сказочник — «человек необыкновенный, который умеет придумывать то, что могло бы быть придумано народом».
И все же Олеша — сказочник, только городской. А самый городской сказочник — это величайший, наверно, художник нашего века, «художник для всех» — Чаплин, и недаром в его грустном и трогательном герое, неприкаянном Чарли, временами пробуждается и даже узнается знакомый храбрый портняжка. Да и другие художники века, от угрюмого сказочника Кафки до феерического Гарсиа Маркеса, вольным полетом воображения, его раскованностью обязаны и народной сказке.
Сказка — это лучинка. Печной уголек, дерзко бросающий вызов тьме и стуже. И еще это ниточка, связующая старых и малых, — золотая ниточка, вдетая в уши поколений.
Книга испанских сказок называется «Зеленая Роза или Двенадцать вечеров». Вечера эти — святочные. Вряд ли надо оговариваться, что народные сказки не закреплены календарно и рассказывают их когда вздумается — где угодно и какие угодно. Но домашнее тепло уютней и желанней в холода, да и сказки требуют досуга, и потому золотая пора для них — это святки. Ну, а при чем тут зеленая роза? Так называется одна из сказок. Конечно, есть даже голубые розы, а вот зеленой пока еще никто не видел. Но, как известно, на вопрос сына: «Бывают ли синие зайцы?» — Лев Толстой, пренебрегая охотничьим опытом, ответил: «Редко, но бывают».
Испанские святки, само собой, отличаются от русских. Общего много — гулянья, ряженые, колядки. На столах оставляют праздничную еду для умерших и ждут, не замерцают ли во тьме огоньки — души покойных. А на Рождество повсюду жгут костры и прыгают через огонь. Но такой, например, ослепительный праздник, как Крещение, праздник ушедший, но увековеченный русской литературой, в Испании намного будничней. Зато сказочен день Трех Королей, трех волхвов, у нас как-то не пришедшийся ко двору. В полночь с пятого на шестое января по улицам испанских городов и весей идут во главе шумных караванов ряженые волхвы, а наутро детей в потайных, но хорошо им известных уголках ждут подарки. Поэт Хуан Рамон Хименес так описывает ослику Платеро предстоящее веселье: «Фантастична для детей эта ночь, Платеро. Уложить их было немыслимо. Наконец, сон одолел — кого на стуле, кого на полу… и теперь, в этой надмирной глубине, где потонула жизнь, вибрирует, как огромное сердце, переполненное и сильное, их единый, живой и сказочный сон… Сейчас мы все обрядимся в одеяла, простыни, старинные шляпы. И в полночь перед окнами детей пройдем вереницей огней и масок под звуки труб, кастрюль и морской раковины из угловой комнаты. Мы с тобой впереди — я буду Гаспаром и повяжу себе белую ватную бороду, а тебе, как передник, — колумбийский флаг. Дети, разом разбуженные, с повисшими еще паутинками сна в изумленных глазах, прижмутся к стеклам в одних рубашках, дрожащие, околдованные. Мы будем сниться им до утра и все утро, а когда заголубеет в оконной створке небо, они, полуодетые, ринутся на балкон и станут обладателями сокровищ».