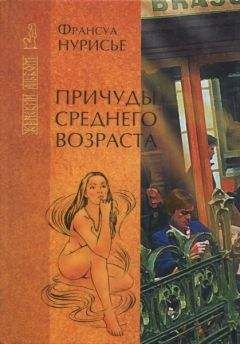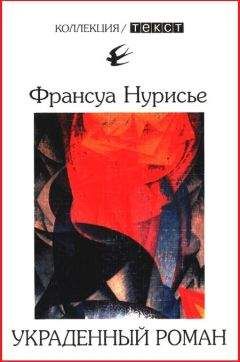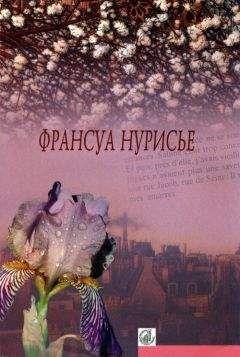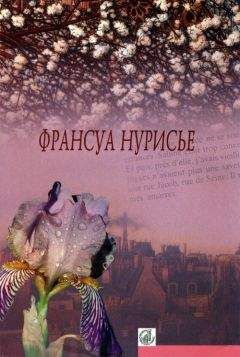Каролин Ламарш - День собаки
Сейчас эта собака, наверное, уже умерла, и ее останки гниют где-нибудь на обочине дороги. Мне кажется, что смерть должна была стать единственным выходом из того отчаяния, из того душераздирающего и никому не подвластного одиночества. Ибо ни один из нас не смог ей помочь. Там было трое или четверо, может быть, даже пятеро человек, если считать толстую девчонку, что до боли сжала мне руку, когда собака перебегала дорогу. Я думаю, что девчонка даже сама не заметила, как вцепилась в мою руку. Быть может, девчонка тоже думала о неизбежной смерти животного. По-видимому, ни один из нас и не подумал об ужасной аварии, которая могла случиться из-за собаки, петлявшей в поисках лазейки между машинами. Словно смерть животного была весомее смерти одного или двух человек. Надо признать, что трупы людей всегда представлялись мне легче, чем живые мужчины и женщины. И в то же время мне казалось, что останки животного, лежащего на обочине дороги, с виду невероятно тяжелые. Не стану врать, я не носил мертвых. Но я столько их перевидел, прихожан всех возрастов и мастей. В смерти они были легкие, почти невесомые, во всяком случае, совершенно не интересные, как пакет, лишенный всякого содержания, конверт без письма. Мне кажется, что даже та, у которой при жизни была такая пышная грудь, что у меня ком подступал к горлу, когда она прижимала меня к себе, да, даже моя мать на смертном одре показалась мне пустой, а меж ее грудей неожиданно легла разделившая их борозда, они будто стали гулкими и полыми. Словно мне представился случай схватить их и дергать, как колокола на праздник Возношения даров. Видимо, взрослые, умирая, становятся легче и прозрачнее, и уже одного этого факта, основанного на простом наблюдении, было бы достаточно, чтобы выступить в защиту существования души: если вес мертвого человека так явно отличается от веса живого, то, вероятно, что-то исчезает, то, что придавало телу всю его тяжесть.
Сколько весит душа человека? «Ноша моя легка», — говорил Иисус. Душа животных — я все же верю, вопреки учению церкви, что и у них есть душа, — легкая, как душа Христа и как душа ребенка, которая в некоторой степени эфемерна. Она ровесница детства, хранительница его секрета — привязанности лишь к настоящему. Дети, как и животные, умирая, становятся тяжелее. Малыш Люка из семьи Фовилей, несмотря на свою худобу, был как свинцовый. Я это знаю, так как приподнимал его по просьбе матери, которая хотела подложить ему под голову кружевную подушку. Он был тяжелый, словно все движение, которое раньше питало его, всю эту энергию, всегда готовую улететь, убежать, вверить себя первому встречному, снесло одним ударом под колесами шофера-лихача, словно, исчезая, она придала ребенку эту тяжесть. Тяжесть, которая в жизни приходит к мальчикам, я прекрасно это помню, после первой мастурбации, а к девочкам, полагаю, после первых месячных. И значит, она плод не души, а сексуальности, если это вообще не одно и то же. Да, безусловно, одно и то же. И это могло бы объяснить то, что любовники после занятия сексом чувствуют тяжесть. Быть может, смерть животных и детей — малая смерть, потому что они не сопротивляются, как и я, когда чувствую поднимающуюся во мне молитву. «Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными»[4]. Молящегося смерть схватывает всего сразу, одним движением.
Софи захватила меня целиком с самой первой встречи. Это случилось январским утром, когда перед церковью Святого Роха срубали старые ивы. Она появилась у меня за спиной, когда я наблюдал этот погром, и спросила: «Господин аббат, почему рубят иву?» Раньше я никогда ее не видел. Она была чуть выше меня и гораздо моложе. Скуластая, карие, слегка раскосые глаза, из-за чего все время казалось, что она смеется. Однако ее сожаление было очевидно: голос ее дрогнул, когда она говорила «господин аббат». Рабочие невозмутимо продолжали заниматься своим делом, отгородившись от нас визгом пилы.
«Они старые», — сказал я немного раздраженно, осознавая, что мне больно от вопроса женщины. Я тоже любил эти деревья, как и они, я тоже усох с годами. «Если даже они и упали бы, то никому не причинили бы вреда, — подхватила женщина, — слишком они маленькие… Но их свет… Другого такого света вам не найти… Понимаете?» Я понимал, что никакое другое дерево не сможет подарить этот золотистый, мягкий, шелковистый свет, струящийся сквозь ивовую листву на траву, камни, наполняющий сам воздух; этот стелющийся, торжествующий даже в своем унижении, человечный в своей нежности свет. Но зимой мы уже не ложились на траву под ивы, и от света оставались лишь воспоминания, ностальгия, и скоро их навсегда вытеснят тополя, решение о посадке которых приняла община. «Тополя? — спросила женщина. — Эти надменные громадины, шелестящие своей недостижимой листвой единственно ради удовольствия небес…» Я замолчал, удивившись презрению, которое сквозило в ее намеке на небо. Щеки ее покраснели, а глаза заблестели. У меня было ощущение, что она говорила о свете ив, как говорят об уходящей любви, о стране, которую покидаешь, о береге, который оставляешь, чтобы перебраться на другой. Я подумал, что она ждала от меня каких-нибудь слов, которые унесли бы ее на тот другой берег. В конце концов, такова была моя роль, мой долг священника. И я сказал: «Солнечные лучи станут длиннее, и будет очень красиво… Тополиная листва будет шуршать словно купюры, новенькие хрустящие купюры, вы только представьте себе». Судя по ее виду, я был неубедителен. Взгляд ее по-прежнему оплакивал ивы, свет, унесенный и погребенный зимой, весеннюю листву, безжалостно истребляемую рабочими. Она останавливалась около каждой глубокой и неизлечимой раны, оставленной на коре дерева пилой, которая отделяла крону от ствола, а потом орудовала у подножия изуродованного дерева. Я добавил: «Тополя растут быстро…» — «Никто не захочет прилечь под их сенью», — ответила женщина. «Прилечь». Летом по воскресеньям после полудня некоторые лежали под ивами на мягкой траве. Это было подходящее местечко для послеобеденного отдыха. В общем-то это было что-то вроде парка, где по вечерам я, бывало, сидел на единственной скамейке и смотрел, как влюбленные, словно легкие кораблики, проплывают мимо в кильватере церкви. Однако никогда еще значение слова «прилечь» не казалось мне столь очевидным. Неожиданно я понял, что мы, священники, ложимся только для того, чтобы уснуть или умереть.
«Тогда мы будем гулять под их сенью». Когда я произносил эти слова, мне показалось, что женщина отчаянно нуждалась в том, чтобы ее распрямили, чтобы помогли обрести внутренний стержень не столько в переносном, сколько в прямом смысле слова. По правде говоря, она плоховато держалась — слегка сгорбленная, словно в груди засела боль. Сама того не замечая, она подражала обезглавленным ивам, которые мягко склонялись, умирая с деликатностью маленьких и близких земле существ.
Чтобы развлечь ее, я рассказал легенду о святом Рохе, которому некогда молились, чтобы спастись от чумы. Этот паломник в четырнадцатом веке по дороге в Рим чудом исцелил несколько человек от чумы, после чего сам заболел и уединился в лесу, где ангел помог ему излечиться, а собака каждый день приносила хлеб. Позже он продолжил свой путь, но его арестовали как шпиона, и он умер в тюрьме. Молодая женщина, казалось, была поражена плачевным концом божьего избранника. Она захотела посетить церковь, носящую его имя. И сказала мне, что несколько раз пыталась войти, но дверь была заперта. Из чего я сделал вывод, что она не ходила на мессу, потому что это единственный день недели, когда двери церкви открыты для всех. Я достал ключи из кармана и объяснил, что в этой церкви, как она могла заметить, романского стиля, хранятся несколько ценных вещей. Одна из них — деревянная статуя святого Роха и его собаки, чья ценность не в породе дерева, а в почтенном возрасте, как и у орнамента из искусственного мрамора на алтаре. Не прояви я бдительность, затейливые завитки, украсившие алтарь в восемнадцатом веке, не избежали бы модного декантирования. На самом деле, в большинстве церквей под предлогом возвращения к первоначальной чистоте, подобные украшения уже убрали, и теперь они валяются и приходят в негодность в ризницах и башнях. Конечно, если их еще не разворовали жуликоватые архитекторы-реставраторы для отделки своих гостиных или лестничных клеток.
Когда тяжелая дверь на петлях, моими стараниями смазанных маслом, закрылась, стало холодно. Женщина прошла вперед, словно была здесь одна. Я остался позади и преклонил колени, не видя за ее спиной алтаря. Она продолжала стоять, не воздав никакой почести Богу. Потом она медленно повернулась на каблуках, ее глаза были широко раскрыты и вбирали окружающее вплоть до мельчайших деталей. Она была поглощена одной задачей — все рассмотреть. Выражением ее чувств стали свет и тень, которые сменяли друг друга, когда Софи то поднимала голову к витражам, то опускала взгляд к полу, выложенному иссиня-черными плитами. Меня она из своего обзора исключила. Я был разве что одним из элементов украшения, самым анахроничным в своем светском платье, с коротко стриженными волосами и бесстрастной маской, заменявшей мне лицо. Да, пред образом этой женщины, сложенным из мозаики света и мрака, я неожиданно почувствовал себя очень плоским, каменной плитой, деревянной ширмой. Мне вдруг показалось, что совсем по-другому стала выглядеть статуя святого Роха: она распространяла вокруг себя детскую радость, хотя по-прежнему одной рукой Рох показывал на изглоданное чумой колено, другой держал посох странника, посланная же Богом собака, что лежала у ног святого и держала в зубах кусочек хлеба, улыбалась. Собака… Я был этим наивным и добрым существом, трепещущим при мысли о спасении ближнего, я нес другим духовную пищу с тонким мякишем и золотистой корочкой. И с этой женщиной я лишь в очередной раз исполнил свой долг.