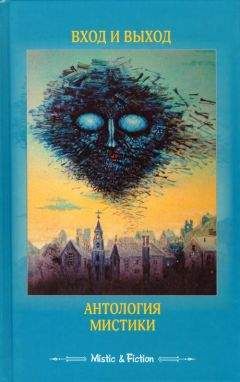Том Роббинс - Вилла «Инкогнито»
Он заправил ей бак. И дозаправил. Осталось еще достаточно, чтобы полить несколько комнат со всей мебелью. Она внесла и свой вклад, а тут еще серебристый свет луны, брызги лучшего монастырского вина – и весь монастырь засверкал и, чего со стороны видно не было, стал скользким, как каток. Бесстрашные мыши, привлеченные дурманящими запахами, обещавшими богатую наживу, вылезли из норок и заскользили, как малолитражки по льду. Мошки и комары прилипали к стенам. Сверчок на полу потер лапки – и не смог их разнять.
Следующие два дня Михо скребла и мыла. К возвращению монахов от выплесков Тануки видимых следов не осталось, но при ходьбе Михо все еще пошатывало. А что до исчезнувшего сакэ и разбитых чаш, то за них пришлось держать ответ послушникам.
* * *Тануки вернулся к монастырю лишь месяца через три.
– Тук-тук.
– Кто там?
– Я. Я Самый.
– Уж не Тот ли это Самый, что свел меня с ума и бросил? – В тоне Михо не было упрека – она ведь ничего другого и не ожидала, – но присутствовала грусть. И когда она открыла ворота, он, заметив печаль на ее лице, спросил, в чем дело.
– Мне придется покинуть монастырь, – сказала она. – Покинуть мудрых монахов.
– Из-за сакэ?
– Из-за будущего ребенка. – Она погладила себя по еще не округлившемуся животу.
Тануки расплылся в улыбке. Нельзя сказать, что новость застала его врасплох. Семени, извергнутого им, достаточно было бы, чтобы заново заселить Атлантиду и половину Помпеи. (Другой вопрос, какими именно особями.)
– Очень хорошо, – сказал он деловито. – Миссия выполнена. Я пришел забрать тебя. Ты станешь моей женой.
– Да как же… Не могу же я выйти за барсука… – пробормотала Михо.
– Я не барсук. И кто это сказал, что не можешь? Она задумалась.
– Да, собственно, никто не сказал. – Она еще немного подумала. – Но я не могу жить в лесу, как дикий зверь.
– Прекрасно можешь.
– Да? – Она замялась. – С этой точки зрения я вопрос не рассматривала.
И через час, как только стемнело, странная парочка направилась в горы.
* * *Дорога была слегка припорошена снегом. Порывы ветра то и дело вздымали кверху снежные облака, сливавшиеся с блеклой рисинкой луны в небе и с паром, подымавшимся от двух путников. Они для тепла держались за руки и брели по узкой крутой тропинке.
Так они прошли мили три или четыре, и тут путь им преградила троица ронинов – безработных вольнонаемных самураев, потрепанных выходцев из прошлого. Поначалу ронины решили, что Михо ведет за собой ребенка, и, хотя их плотоядные взоры не оставляли ни малейшего сомнения в их намерениях, в них заговорили остатки былого благородства, они уже хотели отпустить молодую мать с миром. Но, увы, как раз в этот миг из-за облака вышла луна.
– Вот те на! – воскликнул один из ронинов. – Это что ж у нас такое? Хорошенькая шлюшка прогуливает любимую зверушку. – Какую именно зверушку, он не сказал. Ему случалось слышать, как они барабанят, но видеть тануки он прежде не видел.
– Это не зверушка, – резко оборвала его Михо. – Это мой… – И тут она запнулась. Не смогла произнести этого слова, и, наверное, к лучшему.
Мужчины обступили ее, и Тануки воинственно зарычал. Один из разбойников вытащил из ножен ржавый щербатый меч, жаждавший скорее хорошей смазки, чем свежей крови, и попытался снести псевдобарсуку голову, но был выпивши и давно не практиковался. Тануки проворно увернулся и впился клыками подлецу в коленную чашечку. Крестообразные связки затрещали, мениск выскочил, латеральная связка разорвалась, разбойник уронил меч, с воем схватился за колено и, поскольку нога уже не выдерживала его веса, рухнул наземь.
Тануки ощерился на второго ронина, но третий зашел сзади и с такой силой вмазал по маленькой барсучьей заднице, что тот покатился кубарем и шмякнулся мордой в рисовую стерню. Двое злодеев с гиканьем и улюлюканьем набросились на Михо. Один стал стягивать штаны, а второй взялся за меч.
Когда-то давно, в деревне, Михо частенько билась с братом на деревянных мечах. Да и от тяжелой работы мускулатура окрепла. Поэтому неудивительно, что она схватила упавший меч и резким точным ударом отделила кулак негодяя от запястья. Отделила, правда, не до конца, и отсеченная кисть повисла на окровавленном сухожилии.
Лис, молча наблюдавший за стычкой из ближайших зарослей, пробурчал:
– Похоже, этот беспечный тануки нашел себе в пару самку человека. Поступок не самый мудрый, хорошо хоть, выбрал храбрую.
Тут с рисовой стерни поднялся Тануки – весь мокрый, в грязи, льдышках и навозе. Он испустил грозный рык, забарабанил по животу, затряс своими огромными яичками. Из глаз полетели синие молнии. Кицунэ забавы ради поддержал его из зарослей громким лаем. Трое до смерти перепуганных и уже покалеченных ронинов похромали-поползли на обочину, освободив дорогу женщине и зверю, направлявшимся в свой будущий дом в горах.
Она, достав из узелка с чистой одеждой пояс оби, обтирала с Тануки грязь и дерьмо, он же – что было ему несвойственно – превозносил Михо за мастерство и смелость, а Кицунэ, так и не выйдя из укрытия, только хмыкал да качал рыжей лисьей головой.
– Ах со дезу'ка? – бормотал он. – И что ж из всего этого выйдет?
А затем вновь переключил внимание на жирного фазана, которого в тот зимний вечер послали ему боги.
* * *Когда они добрались до леса к северу от озера Виза, где находилась любимая пещера Тануки, Михо хоть и не потеряла присутствия духа, но изнемогала от усталости. Пещера была просторной – Михо могла стоять в ней в полный рост, но так продрогла, устала и ослабла, что ноги ее не держали. Она со вздохом опустилась на провонявшую потом подстилку из сосновых веток, сухой листвы и мха. Тануки укрыл ее футоном, который она прихватила из монастыря, а сам пристроился рядышком и выдал такой сеанс любовной аэробики, что вскоре она уже исходила потом, как борец сумо на тренажере. После чего заснула и проспала двенадцать часов.
Когда спишь на чужой подушке, бывает, тебе снятся чужие сны. Если, например, супружеская пара поменяется сторонами кровати, ему некоторое время будут сниться ее сны, а ей – его. На гостиничных постелях ничего подобного, разумеется, не случается – там люди надолго не задерживаются, и рожденные их сознанием образы не успевают впечататься в постель. Это связь с ложем или с тем, что под ним? Можно предположить, что мы притягиваем биты информации из нижнего мира, и они формируют наши сны – так на металле под воздействием молекул кислорода образуется ржавчина. В таком случае сны, возможно, есть форма окисления психики. Каждое утро промасленная тряпка действительности стирает все дочиста. Но рано или поздно, проржавев насквозь, мы теряем упругость, проводимость и четкость контуров; нас настигает слабоумие, мы лишаемся рассудка и угасаем. Этого удалось бы избежать, если бы тряпкой терли поэнергичнее. Поэтому-то буддистские монахи и призывают – как и прочие мистики: «Проснись! Проснись!»
Во всяком случае, Михо во время ее первого долгого сна в пещере Бива снилось то, что прежде не снилось никогда. Она и не ведала, что это были сны Зверя-Предка. Сны тех времен, когда звезды были как капельки смолы, и олени порой их лизали. Когда грозовые тучи появлялись, если пукали омары. Когда зубовный скрежет и хруст костей соперничали с музыкой сфер. Когда каждая снежинка действительно была неповторимой, и ее изображение вполне могло висеть в полицейском участке на стенде «Разыскиваются». Михо снились сны, от которых она краснела. И дрожала. И порой рычала. Во сне.
Тем не менее проснулась она отдохнувшей.
– Как ты думаешь, это правда, – спросила она, потянувшись и окончательно сбросив с себя пелену сна, – что пчелы изобрели арифметику, и это вывело богов из себя?
– Понятия не имею, о чем ты, – проворчал Тануки.
Водрузив на блюдо из коры горку сушеных ягод и сашими из форели, он подал ей завтрак в постель. После чего исчез на сорок восемь часов – отправился в набег на ближайшую деревню, дабы раздобыть мешок риса для нее и, вероятно, каплю-другую сакэ для себя, а Михо осталась хозяйничать в пещере. Началась их новая жизнь.
* * *Для Михо пещера настолько же отличалась от буддистского монастыря, насколько монастырь отличался от деревни, где она выросла. Впрочем, она довольно легко приспособилась: ей было там уютно, комфортно и даже привычно. Оно и понятно, ибо помимо очевидных утробных ассоциаций, в ДНК каждого человека сохраняется достаточное количество собственно пещерной памяти. Не говоря уж о пещерном наследии.
Когда обезьяны слезли с деревьев и научились пользоваться острыми предметами, они вынуждены были перебраться в пещеры, где нашли защиту не только от хищников, но и от стихии, что оказалось актуально, поскольку они начали терять шерсть. Со временем они приноровились отображать на стенах пещер свои охотничьи фантазии, что поначалу было попыткой практической магии, а потом стало приносить странное и неожиданное удовольствие.