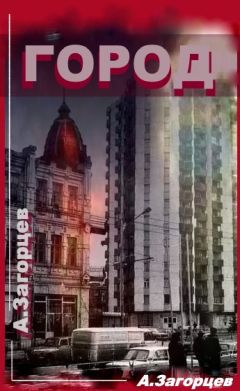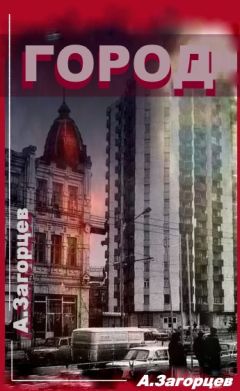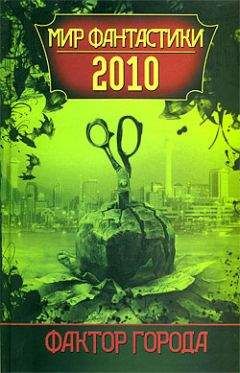Андрей Курков - Бикфордов мир
Чайки улетели. Грицак пододвинул к себе автомат, в мыслях сожалея о невозможности расстрелять из него осточертевшую стихию со всеми ее выкрутасами.
Шторм длился день, ночь и еще день и под конец вклинил баржу меж двух массивных камней, потрепал ее, отчего она, поерзав, села на прибрежную отмель крепко и надолго, потом затих. А вскоре и вода сошла, обнажив покореженное днище – по лунному желанию произошел отлив.
Грицак облегченно вздохнул. Ему было отчего радоваться и за что благодарить этот шторм. В другое время он бы проклял стихию и все ветра, но теперь перед ним был берег: песок, скалы и чуть заметная в дымке зелень деревьев. Перед ним лежала не просто земля – перед ним, избитая дождями и грозами, обветренная зюйдами и нордами, была его жизнь, ее продолжение. А что может быть важнее для человека, сдержанно и скрытно ожидавшего своей гибели?!
Все. Морские мучения позади. Кому суждено было найти смерть в пучине, тот не пропустил своей участи, как не пропустили ее немецкие матросы.
Харитонов, обессилевший от шторма, с синевой под глазами, приподнялся на локтях с койки, не веря в реальность затишья, и снова рухнул на спину. Качка его выпотрошила на неделю вперед, в ушах все еще продолжался скрежет железа, грохот ползающих по трюму ящиков с динамитом, рокот волн, с упорством бьющихся в борта.
Грицак спустился в кубрик, нашел глазами Харитонова, неприязненно сжал губы.
– Причалили! – сказал он и вышел.
Харитонов повернул голову вслед старшему матросу, сбросил ноги на пол и, стараясь устоять, словно шторм все еще продолжался, схватился за верхнюю койку. Постояв так минуту или две, он опустил руки и неуверенными шагами направился к выходу из кубрика.
– Можешь отлеживаться! – негромко и не по-командирски сказал Грицак, забросил автомат за плечо и спрыгнул на песок. – Я на разведку!
Харитонов мотнул головой и остался стоять на палубе, провожая уставшим взглядом своего командира.
Командир бодро вскарабкался на скалистый берег и пропал из виду.
Быстро опустился вечер. Шипели невысокие волны, набегавшие на берег.
Харитонов, придя в себя, достал ножницы, бритву и зеркало и принялся не спеша избавляться от своей роскошной рыжей бороды.
И зачем только Грицак так нервничал?! Словно Харитонов какой-то несознательный бунтарь! Будто он не соображает, когда и что можно, а когда нельзя! Вот сейчас действительно надо привести себя в смотровой вид – вернется Грицак с каким-нибудь пехотинцем при звездах на погонах и тогда за эту бороду без труда можно и в штрафбат загреметь. Но когда Грицак вернется – Харитонов уже превратится в выбритого до синевы образцового матроса. Странно, что командир ушел как-то не по-военному, задачи не поставил. Знает, наверно, что Харитонов не дурак и сам сообразит, что раз он остался один на барже с таким грузом – значит надо стоять на вахте, пока не вернется Грицак. А стоять на вахте – значит смотреть по сторонам, а думать о своем, вспоминать о доме, об озере, из которого вытекает река Онега, о мирном времени, которое обязательно наступит, и тогда он, матрос Харитонов, сможет наконец заняться любимым делом, которым он еще не занимался. Он найдет людей, для которых самое главное в жизни – дирижабли, он найдет их и останется с ними. Будет работать за кусок хлеба и кружку молока в день. И еще он отправит все написанные письма П. Ионову, и встретится с ним, и уговорит его написать другую книгу, книгу о мирных дирижаблях…
Вечерняя вахта под продолжающееся шипение волны превратилась в ночную. Черная поверхность воды качала отражения далеких звезд, а желтая луна, словно вырезанная из вологодского масла, то с любопытством смотрелась в ночное зеркало океана, то пряталась за недозрелые грозовые тучи.
«Да разве можно считать меня недисциплинированным?! – думал Харитонов, выискивая в небе спрятавшуюся луну. – Разве я не выполнил хоть один толковый приказ? Для великого дела победы все, что от меня зависит, – я делаю! Но пусть мне кто-нибудь из генералов объяснит: как ежедневное бритье может приблизить гибель врагов? Приказал Грицак спать на верхней койке, хотя в кубрике полно нижних, – я сплю и даже понимаю, почему Грицак спит внизу, а я вверху болтаюсь. Потому, что он – командир, и я должен всячески ощущать свою подчиняемость…»
На третьи сутки бессменной вахты Харитонов усомнился в своей стойкости и решил хоть бы часок подремать. Устало забрался на свою верхнюю койку – словно уже в кровь вошел приказ Грицака, ведь куда удобнее спать внизу, – лег на спину и смежил веки.
Сон навалился как огромной силы шквал, пригвоздив его к койке и лишив сил. Он только почувствовал, как быстро обмякает его тело, как сами собой отнимаются руки и ноги. Это был плен, из которого одним усилием воли не вырваться. Тело ушло из подчинения.
Прилив щекотал днище глубоко засевшей в песке баржи, а обычно крикливые чайки молча кружили, безразлично кося глазками на только что зачатый природою розовый рассвет.
Сон начал возвращать Харитонову силы, и Харитонов снова ощутил себя, ощутил свою самостоятельность и цельность, и тело слушалось его, и бежал он куда-то во сне своем, а потом, добежав до вершины горы, огляделся и радостно оскалился, остановив свой взгляд на зависшем над лесом черном дирижабле. Вместе с радостью от увиденного возникло желание перекрасить свою мечту из черного цвета, который спасал воображаемый дирижабль от ночного зенитного огня, в какой-нибудь яркий и радостный цвет, но для этого нужна краска, и дирижабль должен быть рядом. Впрочем, дирижабль ничего не должен, и разве можно перекрашивать мечту, словно это забор или калитка?! Нет, пусть пока будет темным, а когда станет очень солнечно – он сам выцветет, посветлеет и никакое перекрашивание не понадобится.
Харитонов прилег на поляне, посмотрев еще разок на свою мечту, и решил вздремнуть, но тут какая-то неведомая сила теплой рукой сжала ему горло и стала давить. От испуга Харитонова взяла оторопь – тело онемело, чьи-то пальцы все глубже вдавливались в шею. Харитонов понял, что все сейчас прекратится и наступит конец его нищей настоящей жизни, а следом закончится и богатая, но придуманная. Сердце замедлило ритм, легкие скукожились. Он огромным усилием поднял тяжелые многотонные веки, но кошмар продолжался и тело не слушалось.
– Неужели это не сон? – Харитонов, скосив взгляд влево, различил в темноте стенку кубрика. Хотел повернуть голову, хотел поднять руку или пошевелить пальцами, хотел посадить дирижабль на берегу озера Лача… Одни несбыточные желания. Так подкатывается медленная смерть, ожидаемая смерть, которая намного страшнее любой неожиданной.
Харитонов еще раз попробовал напрячь руку и хоть как-то оживить ее. Показалось, что возникла некая слабая связь между его желанием и действием руки. Рука, словно сделав снисхождение, пошевелилась, и теперь Харитонов ощутил ее, точнее, он ощутил схваченный судорогой локтевой сустав, ощутил немоту в пальцах и даже смог приподнять сведенную руку. Теперь надо быстрее освободить горло – иначе он задохнется и всякая борьба за жизнь потеряет смысл. Он поднес непослушную руку к шее и ощутил чужое тепло. Харитонов резко столкнул с шеи невидимую вражескую руку. Раздался писк, и вниз полетела пригревшаяся на шее у Харитонова крыса. Грохнулась о деревянный настил пола и тут же барабанной дробью перебежала в дальний угол кубрика, где и притаилась.
Очумевший Харитонов снова смежил веки. Силы мало-помалу стали возвращаться к нему уже не во сне, а в реальности. Выровнялось дыхание, и легкие с жадностью распирали грудь, наслаждаясь вновь обретенной свободой вдоха и выдоха.
Харитонов встал. С указательного пальца слетела капля крови, и он увидел глубокую царапину – след крысиного когтя. В уме не укладывалось, откуда взялась эта крыса и как она забралась на подвешенную к потолку койку.
Вышел на палубу – солнце в зените, полуденное время. Странно, кажется, только что была ночь… В это время с Лачи в Каргополь возвращаются рыбаки. Но что с Грицаком? Почему его до сих пор нет? Пропал? Погиб? Или сразу арестовали и проводят дознание?! А если он вообще не вернется? Что тогда? Сидеть на барже, пока НЗ не закончится, а потом пустить себя на воздух с помощью своего же груза? Уже, правда, не только себя, но и еще одну живую тварь.
Мысли Харитонова не могли надолго отходить от страшного сна, перешедшего в реальность. Харитонов не верил в многозначительные случайности. Что-то эта крыса обозначала, может, то, что Грицак не вернется?! Вполне может быть – она ощутила нынешнее и грядущее одиночество Харитонова и пришла к нему показать, что он не один. Пришла к нему как божье знамение, убеждая жить и бороться за жизнь, думать о ясном и толковать непонятное.
Грицак не вернется. В этом Харитонов уже был уверен.
Странно, что крыса никогда прежде не показывалась на глаза и не заявляла о своем присутствии.