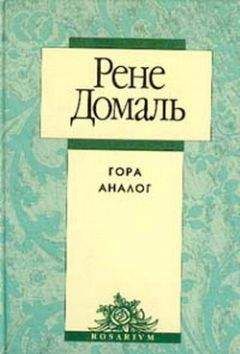Александр Иличевский - Нефть
Глава 3
ЛИНЕЙКА
Нынче утром ко мне бурей ворвался Петя.
Я не успел спросонья даже шевельнуться — хотя бы мыслью: проворно — как попугай из коробки записку-на-счастье — хватанул мою тетрадку и — канул.
Я заторможено умылся и подумал: ну и что. Жаль, нельзя будет потом внести исправления. Решил — буду теперь прятать тетрадь под подушку.
Затем, размыслив коротко над кофе, подточил карандаш, сел на кровать, подобрал ногу и на коленке продолжил:
«Умывание. Вода — зубы ломит: колонка еще не разошлась, а ждать некогда. Порошок мятный, прошлогодний, комочками: щетка их не берет — царапают десны. Ментол со временем выдохся весь, потому на соду похоже. Сплюнул. Глянул в зеркало. В паутину трещинок поймался живой блик. Далее в зеркале — зарешеченное окошко: в ячейке шевелится шершавый лист инжира: прикрыл тугой зеленый плод, на его полюсе тужится капелька млечного сока: муравей в ней вязнет усиком — пьет. Застыл. Исчез. Пора проснуться до конца. Еще две пригоршни воды. Блик дергается, как веко, и, медленно перемещаясь, вытягивает за собой паутину: вдавливаю в зеркало палец.
Я сильно загорел — в тон карих зрачков. Белки дико проглядывают, как пятнышки теперь чужой бледнолицости.
Завтрак. Полез за кастрюлькой в стенной шкаф. Табуретка подломилась треножником (о, разруха!): и, падая, смел с полки корзинку с овощами. Приземлился в упругую россыпь лиловых игрушечных цеппелинов и помидорное месиво. Собрал, убрал, с коленки стер ладонью сок, слизал с солоноватого локтя и вдруг понял — внезапно и жутко, как пешеход проваливается в коварный люк, что все совершаемые сейчас мною движения не случайны, что в них есть какое-то усилие припоминания, примерки уже однажды бывшего — так ли оно сидело на мне.
Сломил чурек, разрезал вдоль, сложил толщиною в палец жареные баклажаны, сверху веточку рейхана. Поставил на огонь кастрюльку. Вода вскипела. Яйцо, конечно, лопнуло, распустилось белковой розой. Глядя, вспомнил, как в детстве старуха-соседка лечила от испуга: когда меня сбила машина (не сильно, только крепко толкнула). Завела к себе, приставила к стенке, миску с водой уравновесила на макушке, что-то страшное шептала, плавила воск, разом на голову выливала. Потом показала, что получилось: кверху брюхом игрушечная легковушка. Старуха говорит:
— Вот твой испуг.
Хотя я бросался под колеса „рафика“ неотложки, поскольку Петя закричал, что видит маму на той стороне улицы. Вот я и бросился от восторга наперерез движению. Отлично помню кривую улыбочку своего братца, когда его привела Циля к нам с мамой в больницу.
Я попросил ведунью поиграть с машинкой. Не дала.
Скандал. Циля случайно проснулась, очнулась, ожила. Выходит босая, сообщает, что кто-то увел у нее босоножки.
Я понял: велики, потому-то задник и соскочил — и звучали шаги не мерно, приволакивала подошву, чтоб не споткнуться.
Глотнул горьким залпом кофе и кинулся опрометью, поскольку якобы опаздываю к открытию касс. Если бы не испарился, был бы обвинен и в босоножках тоже…
Двор. Поземка из струек опавшего цвета акации, россыпь сочно разбившихся за ночь ягод тутовника. Благодать утренней свежести, которая через час-полтора истает: небо зловеще бледнеет. В полдень, как слезы на сыре, проступят капельки нефти на недавно положенной на углу нашей улицы асфальтовой заплатке.
Остановка. Прислонившись к фонарному столбу, на корточках сидит Сашка Аскеров: плечи на прижатых к груди коленях, прищуренный вид, с сигаретой между большим и указательным. Он по-солдатски прячет ее в ладонь, в общем — натурально, амшара приблатненная, но при этом — взгляд какой-то умудренный, печоринский, что ли. Я ему:
— Давай, в авиакассы сгоняем.
Сашка, мучительно затягиваясь:
— Не, не могу. Сегодня ночью с паханом обои клеил — днем жарко, да-а. Спать хочу — умираю.
Сашка цыкает длинным плевком в сторону и смотрит хитрованом — пойму ли его признание:
— Короче, ночью Америку слушал. Ну там, „47 минут джаза“, знаишь?.. „Лав суприм“, слышал? Джон Колтрейн, короче. Я чуть не умер, клянусь, да-а. Пахан тоже.
— А я вчера в Кирова парке чуть не умер, — говорю.
— Ай, говорил я тебе, зачем ходишь где хочишь?! Ты, что! жить не любишь?
— Люблю.
— Ну, короче. Потом купаться ходили. Меня тюлень в плечо укусил — зверь, да-а! (Сашка задрал рукав футболки, показывая ободок запекшихся ранок.) — Заплыл далеко, без трусов. Вода-а-а, кейфуй — не хочу. Кругом — космос, как в небе плывешь, клянусь. Верх и низ — одно и тоже, получается. Вода тоже светится. Я на спине расслабился, у меня вот тут, — он горячо ткнул под сердце, — Колтрейн фигарит, и тут — как цапнет! Я думал, умру.
Поболтав еще с Сашкой, дождался троллейбуса — впрыгнул, уселся.
Стоп. Остановка „Кинотеатр Низами“. Моторы взвыли и спинка сидения упруго понесла меня по городу.
Через два года Сашка погибнет.
В течение нескольких месяцев двухсоттысячное население Арменикенда будет покидать Баку. По воздуху — в Ереван, в Ростов и в Москву, на паромах — в Красноводск. Погромы будут следовать один за другим. Но только в январе десантные части войдут в город, чтобы спасти партийных крыс от виселицы, поставленной „Народным фронтом“ у горсовета. Солдаты, по тревоге поднятые в воздух из-под Рязани, после высадки будут очумело думать, что это — Афган. Десантники, ютясь на БТРах, раз за разом будут врезаться в море воющей толпы. Мой загремевший из-за проваленной сессии в армаду однокурсник Миша Бабанов тогда получит три ножевых. Нежные малиновые шрамы, уже дембелем вернувшись с комиссовки, задрав рубашку и спустив джинсы, он покажет нам в туалете на большой перемене. (На бедре шрам окажется похож на след от тугой чулочной подвязки.) Сползая с брони и теряя сознание, Мишка опорожнит рожок в облепившую их машину толпу. Еще раньше Сашка укроет у себя семью своего друга, Гамлета Петросяна. Соседи сообщат толпе. Погибнут все, кроме Эмки, одиннадцатилетней сестры Гамлета — Сашка выбросит ее в окно. Эмка пушинкой повиснет в голой кроне акации.
Троллейбус. Я решил, что перед отлетом непременно сам отправлюсь к Фонаревым.
Троллейбус тронулся дальше, и я подумал, что начинаю чересчур пристально относиться к происходящему.
Далее я еще осудил себя за это, и чтобы как-то поправиться, решил для начала навсегда поселиться в троллейбусе. Тут же в салоне, как в театре, объемом налился сумрак, пошел снег, а я оказался снаружи. Прильнув к стеклу и сложив ладони окошечком, я принялся внимательно разглядывать, что происходит внутри. Вижу, как дети возвращаются с горки, которую за пеленой крупнозернистого снежного праха и набегающих сумерек можно принять за склон неба. Укатавшись за день, они устало тащат за собою санки. Долгий караван уже наскучившего детства. Первые останавливаются у самого окна, остальные еще подтягиваются. Дети чем-то опечалены, у них суровые лица. Я удивляюсь: как странно, ведь они целый день — так что дух захватывало — катались среди белого и голубого! Тихо и ровно идет снег. Вдруг замечаю: на санках лежит голая Оленька Фонарева. Дети тоже ее заметили и спрятали от неожиданности глаза. Я не спрятал, я продолжал смотреть на зябнущую Оленьку. Обняв себя за плечи, она улыбалась. Соски жалобно выглядывали из-под локтей. Видимо, ей было очень неловко. Казалось, взглядом она просила сочувствия к ее положению. Потом дети привыкли и стали сыпать на нее из сугроба охапки снега. Спасаясь, Оленька превращается в куклу, в которую влюбляется мальчик, на чьих санках она путешествовала. В этом мальчике я узнаю себя. У меня сжимается сердце. Темнеет, и мне видно все хуже. Я прижимаюсь плотнее к стеклу и вдруг замечаю, что троллейбус убыстряет ход. Мальчик берет Олю на руки, прижимает к себе… Потом я вижу уютную жаркую комнату, квадрат стола, покрытый упругой белой скатертью, на нем стакан горячего молока, в который кладут с ножа кусочек сливочного масла. Тая, масло плывет дрожащим желтком в ярком тумане. За столом сидит голая Оленька и мажет мне медом хлеб. Я медленно и вкусно съедаю бутерброд, запивая молоком. Она подходит вплотную, дает свою небольшую грудь. Я беру ее голубоватыми от молока губами. Потом она гладит меня по голове, помогает с узким горлом свитера, расстегивает, снимает рубашку, припав на одно колено, стягивает с меня мокрые от снега штаны и помогает залезть на стул, откуда я, обняв за шею, перебираюсь к ней — на закорки. Оборачиваюсь: молоко недопито, его поверхность подернулась морщинистой желтой пенкой.
Она уносит его из комнаты.
Стакан, постояв, вдруг начинает бешено вращаться. Центробежная сила упруго раздирает пленку пенки, воронка на молочной поверхности углубляется до самого донышка. Вздыбившееся молоко вырывается наружу, заливая потоками комнату, попадает на стекло. Я перестаю видеть из-за потеков — и оказываюсь внутри.