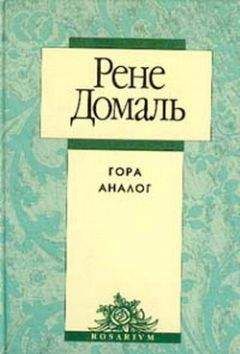Александр Иличевский - Нефть
Он еще не спал. На меня не взглянул: когда занят письмом, его ничто не может отвлечь. Мне иногда кажется, что мы — те, кого он любит, — только потому и существуем, что он пишет нас, и существование наше — это жизнь на кончике его пера, и линии наших движений, жестов, мыслей, чувств — суть его огромный почерк.
Наконец, он дописал фразу и, все еще глядя в лист, потянулся к спичечному коробку, чтобы заново раскочегарить простывшую трубку.
Я спросил:
— Что у Фонаревых?
— Тебе нужно в пятницу оказаться в Москве. Спросишь Петра, он расскажет тебе о Фонаревых, чего ты не знаешь. Скажешь — теперь можно, я велел.
Он обернулся и толкнул пошире окно, чтобы выпустить облако табачного дыма, которому уже становилось тесно.
Я ждал.
Большая ночная бабочка наконец запуталась в лабиринте дыма, пробираясь среди плавных сгустков к тесному конусу света настольной лампы, и ударилась в стопку книг. Одурманенный и оглушенный бражник плавно поводит крылышками, будто продолжая свой сложный полет по неторопливому бессознанию, и я странно думаю, что cон вообще всего лишь похож на обморок легкий действительности…
Отец аккуратно, за туловище, берет в пальцы этот кусочек полета во сне и по параболе переправляет в окно. Сипло пыхнув два раза, затягивается.
— Потом пойдешь в „Инюрколлегию“ — составишь запрос. Теперь пора. Сейчас иди спать, утром купишь билет. Вот деньги.
Он вытянул из стопки книгу, раскрыл — я подошел и взял заложенные десятки.
Уже в дверях услышал:
— Возьми ее с собой. Пригодится.
В коридоре я столкнулся с Цилей. Она подслушивала, и теперь напряженно решала, в какую сторону ей улепетывать.
Вообще, она часто оказывается в неловком положении — и все потому, что, волнуясь, никак не умеет собраться, всякий раз забывая напрочь сразу все варианты, из которых следовало бы, принимая решение, наконец-то выбрать. Все это от рассеянности, совершенной потерянности в, казалось бы, совсем незамысловатом пространстве выбора.
Часто, проснувшись утром, ей нужно какое-то время, чтобы воссоздать себя заново, поскольку ближайшее прошлое для нее труднодоступно, и она, таким образом, всегда оказывается вне настоящего.
Я верю, что иногда вместо нее просыпается персонаж ее сна, и с ним вместе, с него стекая, сон переливается в действительность, как бы ее разжижает, в силу чего последняя вокруг оказывается разреженной, будто из нее, как из жидкости, резко вынули предмет — сознание, и теперь зыбкая, колышущаяся реальность, схлопнувшись над его бывшим местом, безнадежно пытается заполнить образовавшуюся пустоту, создавая некую увлекающую, как взгляд в пропасть, тягу. Ощущается это так, словно вокруг нее постоянно поддерживается какое-то удивительное поле вертижа. Приходилось ли вам наблюдать блуждающую по поверхности пруда воронку, сорвавшуюся с траектории гребка весельной лопасти?
Существование Цили является беспочвенным. Это чувствуется безошибочно, внятно передаваясь тем, кто находится с нею рядом. Находя себя в ее близи (даже сейчас, о ней только вспоминая, я испытываю нечто вроде смыслового головокружения), легче всего почувствовать безосновательность своего собственного существования — это, как вирус, передается телу чувств.
Поэтому ее нелегко любить. Но лично меня всегда привлекала именно эта остросюжетная сторона ее личности. Ее беспамятство, которое сродни слепоте, и то непрерывное усилие, прилагаемое ею для борьбы с мороком безотносительности жизни, жизни помимо, каким-то образом абсолютизировало ее для меня, и я догадывался, что вот именно здесь и находится самое захватывающее, самое стоящее.
(Разумеется, физической причиной ее такого состояния жизни было впоследствии выявленное патологическое явление — вполне терпимое заболевание, какая-то слабая разновидность болезни Альцгеймера. Но не в этом, конечно, дело.)
Несмотря на множество неприятностей, состоящих из конфузнейших недоразумений, провалов, следовавших из-за неверного восприятия сути — событий и их поведенческих траекторий (она по два раза на дню разыскивала в кухне холодильник; путала имена подруг, любовников, а потом и внуков; с ней невозможно было иметь никакого дела: вечные смертельные ссоры с матерью и сестрой, не говоря о сослуживцах; она могла сегодня страшно рассориться со сводной сестрой Ириной, а завтра, напрочь забыв об этом, звоня ей по какому-то мелкому делу, озабоченно интересоваться, почему та так долго у нее не была), степень ужаса от непоправимой суммы которых умножалась высокомерной отстраненностью от происходящего и — подобно эффекту турбины — взвинчивала трагическую выколотость из теплого поля заботы близких…
И вот, несмотря на все это, я с самого начала интуитивно чувствовал в ней некую таинственную существенность.
Я даже одно время думал, что ей однажды приснился сон, в котором ей снилось что-то, и когда это что-то, наконец, смялось и приостановилось, она заснула, и там — во втором вложенном сне — нечто вновь развернулось в медленное событие, и оно, длясь, ей продолжало сниться, сниться до тех пор, пока она не очнулась во сне от второго, скрытого тканью сна сна, и вот тогда-то она и совершила оплошность, приняв это за настоящее пробуждение, за возрождение подлинной яви, — да так — в первом сне — навсегда и осталась.
Мне довольно рано удалось разобраться — в чем здесь, собственно, дело. Хотя поначалу, в детстве, я, случалось, до слез обижался на ее странности. Например, она могла меня, ребенка, развлекать день напролет, вдруг вывозя на пляж в Шихово, и со мною — наплававшимся до будоражащей сладкой нежности в теле — гулять по бесконечной набережной, разрешая одновременно тир и чертово колесо, парашютную вышку и автодром, гяту и газировку, вдоволь покупая мороженого и сахарной ваты, и вообще позволяя абсолютно все, что обычно находилось под некрепким родительским запретом; она могла целый вечер читать мне Андерсена, или Гауффа, и потом, сидя в сумерках рядом, долго помахивать у изголовья раскрытой на форзаце книгой, так отгоняя от моего лица влажные широкие листья бакинской духоты, терпеливо дожидаясь, покуда сознание мое, наконец, не опрокинется на плоскость чуткого марлевого сна — и его утянет подальше, к утру, тихий ручей сновидений; а на другой день совершенно оставить без внимания, казалось бы, вполне обоснованную вчерашним приступом дружбы мою детскую доверчивую приязнь. Эта подмена, обманная прерывистость тепла, которая в детстве сродни настоящей смерти, поначалу доводила меня до рыданий. Но папа однажды сказал на это: „Так надо. Обижаться в данном случае — пустое“.
В пожилом возрасте у нее появилось нечто вроде мании преследования, невероятной подозрительности. Те вещи, которые она по рассеянности теряет, или только месторождение которых забывает, она уверенно считает украденными. Например, за эти три недели я трижды крал у нее кошелек с пенсией и однажды какое-то свидетельство, а также дважды совершал чуть меньший грех — куда-то утаскивая „Степь“, — текст которой, кстати, она и так знает чуть не весь наизусть, и текучие цитаты откуда нередко — произвольно, в виде бреда — вставляет в свою пущенную поверх собеседника речь.
Часто взгляд ее вдруг соскальзывает с оси сообщения, и она, отворачиваясь, но продолжая говорить, медленно, как во сне, отправляется в неведомые свояси, и вы внезапно понимаете, что все это до сих пор было предназначено совсем не вам, и даже не ей самой, но никому вообще, и было только звуком, речью, выборматывающей, заклинающей ее болезнь — ничто.
Потому она и подслушивает: не столько любопытства ради, сколько недоумевая, что никак не отыскивается искомое и что, возможно, от нее просто скрывают причину ее беспамятства, где-то прячут по разговорам, которые при таком подходе оборачиваются заговорами.
Вот и сейчас, повиснув на растяжках выбора между двумя направлениями, или, возможно, их попросту позабыв (куда же податься, вправо или влево, которых нет?!), она заговаривает эту пропасть решения следующим образом:
— Я, Глебушка, на самом деле в уборную направлялась, да вот конфуз какой вышел — потерялась. Подозреваю, вы с папой снова зеркало в тот конец прихожей перевесили, я ведь просила вас оставить его в покое, оно же путает меня: по ходу повернуть уже следовало, а я все еще напрямик с непривычки норовлю, вот и шишку вчера себе набила, да и сейчас то же б случилось, если б не почуяла сквозняк от балконной двери. Ты зачем ее привел? На что она тебе? Ты хотя бы уж вымыл ее, что ли, прежде чем спать укладывать — белье только пятками замарает, кипятить придется, просто стиркой теплой не обойтись, папу же мне лишний раз не хочется беспокоить, а сама я таз на плиту уже и не поставлю. А зеркало вы с папой завтра непременно перевесьте, с зеркалом вы безобразить бросьте. Это, Глебушка, мой дом, вам не след в нем хозяйничать. Я и так всю дорогу путаюсь, куда что положила и откуда что взять следует. Случается, и не положила еще вовсе, а про себя затвердив, что вот, положила я это свидетельство в верхний ящик комода, оттуда и брать надо, и вот не положив-таки, там же и ищу беспрестанно, все перерыла — а нету, да потом хвать, а оно в кармане халата и лежало все время, а я уж чего только, грешная, не передумала! Ты ее все же с собой не бери. С Фонаревыми она тебе не помощник. Зачем ты эту профурсетку дикую таскать с собой будешь, брось ее, завтра же выпусти. Что за бесполезная жалость?! симулянтикус натураликус, а не сиротское несчастье. Ты ее расспроси, расспроси хорошенько — сразу убедишься, что лжет, как отпетая. А с Фонаревыми будь осторожен. Мы всегда с ними осторожничали, там злое водится. А сейчас спать шагом марш, да не забудь только вымыть ее хорошенько, полотенце чистое в ванной есть — голубое. Кассы в девять часов открываются. Чтобы к открытию не последним поспеть — смотри, не проспи, на завтрак от ужина демьянка жареная осталась, я ее в холодильник убрала, еще яйцо сварить себе можешь. Покойной ночи, милый. Завтра, пожалуйста, помоги папе зеркало перевесить. Сделайте непременно, сил моих нет кутерьму эту всю вынести. Одно помни, что никогда ни в чем ты уверен быть не можешь. Как только уверишься, как станешь в уверенности своей неподвижен, так считай, что в прицел тебя и поймали, и уязвимость твоя вся — как на ладони. Где же я полотенце-то голубое сушиться вывесила? На балконе ему висеть полагается, а не где-нибудь в кладовке. Случается, вовсе еще и не затвердив про себя — куда, а туда уже положила, и позже запомнила я это полотенце на балконе на веревке, и что оттуда и брать надо, но вот не запомнив-таки, там уже и не ищу, все в памяти перерыла — а нету, да потом наверняка обнаружится, что оно там и висело все время, а чего уж я только про него не думаю!..