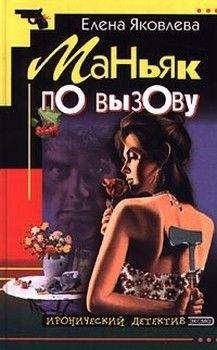Георгий Пряхин - Хазарские сны
Мамаеву колесницу не искал никто, кроме интернатских. Это у них тоже передавалось из поколения в поколение. Городские краеведы и авантюристы раскапывали копаные-перекопанные Маджары, тащили из раскопов бирюзовые осколки плиток с червоточинами былых узоров, могильные камни с клинописными шифрограммами (с того света?) на них, монетки, уздечки, густо обросшие ржавчиной — тронешь, и рассыпаются в пыль — и прочую мелочь.
Интернатских же влекли другие масштабы.
Танцевать — так королеву!
С ранней весны и до поздней осени торчали кверху черными, цыганскими пятками в разных углах Буйволы. Даже акваланги где-то раздобывали и вылизывали тощим брюхом ее подводные недра. Недра у Буйволы знатные: если поставить земснаряд, то будет выдавать непосредственно мазут: на дне Буйволы не ил, а многометровые залежи черной, пышной и пуховой грязи. Ныряешь представителем одной расы, выныриваешь — африканцем. Смазывает без проплешин, жирно, зловонно, с радужным легированным отливом. Спичку поднесут — вспыхнешь. Интернатский народец и без того пройдошистый, а при такой-то бархатной смазке в игольное ушко ящерицей проскальзывает. Какие-то непознаваемые процессы идут в глубинах соленого озера: сера, аммиак, йод… С микроскопическим участием золота. Есть, есть колесница! — твердо верила ребятня. Если только не переварила ее эта едкая утробная грязь.
Интернат на берегу озера, метрах в трехстах от него. И все самое интересное в ребячьей жизни связано с ним. Купаться начинали рано, с середины апреля. В поперечнике озеро не меньше километра. Несколько камышовых островков, словно пологие крыши подводных мазанок, разбросаны по нему. Решили однажды втроем промахнуть его насквозь: туда и обратно. Вода соленая, горьковатая, легкая. Волны нет. Только рябь чуть-чуть играет, будто кто-то громадный и невидимый поднес к губам это выпуклое степное блюдце и, изготовившись, задумчиво выдохнул, сдувая прозрачный парок. Плыли в полной безмятежности: саженками, на спине. Остались в стороне острова, на которых и земли-то не было: только камыш, увитый жемчугами лягушачьей икры — по вечерам эти островки превращались в оркестровые ямы, возносившие над городом душное марево жабьих стонов. Казалось, усталость не настигнет их никогда. Но не тут-то было. Где-то за серединой силы стали сдавать. Барахтаешься, барахтаешься, а все на одном месте — как муха в парном молоке. А тут как раз самая глубина: скользнешь солдатиком вниз — ноги стынут: подземным, подвздошным, могильным холодом тянет оттуда.
Черт его знает: вдруг там, в жирной бездонной грязи, не только колесница, но и сам Мамай в ней, в решето изъеденный рыбами и пучеглазыми здешними раками? Ждет не дождется, кто же, наконец, составит ему, одинокому, честную компанию?.. Каждый сопит и каждый не признается — вслух — что сдает. Да и сил на слова нету. Глаза и те сами собой закрываются. Стал считать про себя гребки. До трехсот дошел — все, будь что будет. Колом, но при этом совершенно молча, в полном соответствии с неписанным мальчишеским уставом, пошел вниз.
— Здра-асьте, гражданин Мамай!..
И по колено увяз в грязи. По колено, потому что и воды оказалось почти столько же. Оказывается, они давно уже молотили по мелководью.
— Ё-моё! — хрипло провопил Сергей, и это была долгожданная команда для всех: друзья его тотчас последовали его примеру. Минут пятнадцать еще брели они к противоположному, высокому, уходящему прямо в родную Серегину степь берегу. На котором и расположен сейчас военный городок 205-й бригады, где в этот приезд Сергей и Муса также побывают в гостях — и опять же, благодаря Мусе, не с пустыми руками.
Дошли, добрели и свалились — прямо под кручей, продырявленной в нескольких местах на недосягаемой высоте зрачковыми норками ласточек-береговушек. Отлежались и приняли единодушное решение: назад возвращаться посуху. Вплавь уже не отважились: поджилки еще дрожали. Двинулись вдоль озера. Солнце садилось, холодало. Апрель, а они в одних трусах. Добрались до шоссе, огибавшего Буйволу — шоферня редких тогда машин, смеясь, сигналила им, но брать с собой, подвезти не торопилась. А ведь на том, интернатском берегу, спрятанная в полынной ямке, их одежка. Три форменных картуза, три шерстяных гимнастерки и три пары штанов. Целое состояние. «Гоминдановка» — звали они свою интернатскую форму. Что если на нее уже кто-то позарился? В каком виде заявятся они, продрогшие и скукоженные, в интернат?
Курам на смех.
Плыть пришлось километр, пехом же чесать не меньше четырех…
Буйвола… Наверное, раньше называлась правильнее — Буйволица. Буйволица, глубоко и покойно разлегшаяся после водопоя вдоль города.
А может, и в оглобли мамаевой колесницы была впряжена не кобыла, а буйволица? Верблюдица? — они в степи сподручнее.
Недавно узнал: название ногайское и вряд ли связано с буйволами, хотя буйволы у ногайцев в чести.
* * *Отказать Мусе не мог не только из благодарности о той поездке. И не только потому, что про себя рассчитывает на продолжение финансовой помощи издательству — сегодня издателю, чтобы жить «на свои», надо либо иметь весьма солидный первоначальный капитал (чаще всего чужой), либо истово служить ширпотребу, если не чему-то еще более сомнительному и даже темному. Пушкин и Лермонтов, чьи полные академические (23 тома и 10 томов соответственно) собрания издал Сергей, в гробах бы перевернулись, узнав, какой ценой, какими ухищрениями и унижениями собрал и воссоздал, выползал он эти их многотомники, невиданные ни тем, ни другим при жизни. Пушкин еще правил первые тома своего первого Собрания, поручик Лермонтов же, соривший стихами, как и деньгами, без разбору и счету, при жизни увидел лишь книжечку с начальными главами Печорина — первый сборничек вышел в год его гибели.
Нет, Пушкин, пожалуй бы, не перевернулся: он и сам жил в долгах, как в шелках. И делал их с громадной, птичьей ловкостью многодетного семьянина. Самую антимонархическую книгу — «Историю Пугачева» — исхитрился издать практически на монаршьи заемные деньги. Иное дело Лермонтов. У этого мальчика земных долгов не было — только небесные, в уплату которых пошла и сама его жизнь. Все остальное, бренное в его существовании взяла на себя, как известно, его бабушка, Елизавета Алексеевна. Жар, с которым несла она одинокое свое родительство, тоже позволяет думать о некоем страстном послушании, о восполнении чьих-то, чужих или родовых, долгов, первоначального исходного объема любви, недоданного в свое время этому навсегда печальному, отверженному отроку: не зря в тарханском доме с Мишеля рисовали не только портреты, но и иконы тоже.
Счастливо опустошаясь, мы вливаем в женщину крайний глоток любви; она же, оплодотворяя, одухотворяя и в чем-то преображая его, потом равномерно выдыхает, нежно пеленает им, как благодатным первоцветом, на протяжении всего судьбой отмеренного ей срока сопредельного проживания на белом свете эту совместно воспроизведенную жизнь.
А тут — живительное дыхание пресеклось едва ли не на первом вздохе…
Нет, пожалуй, в России второго такого поэта, кроме Лермонтова, так часто заглядывавшегося на небо — еще и потому, наверное, что под ногами у него всегда было твердо и сухо. Первым лучшим романом на русском языке назвал «Героя нашего времени» Фаддей Булгарин. Том этот «для рецензирования» послала ему Елизавета Алексеевна, сопроводя посылочку… пятистами рублями ассигнациями.
Если правда, что выстрел грянул одновременно с грозой, то убил его не Мартынов: просто небо взяло свое…
Муса импонирует Сергею, который убежден: с этим народом надо мириться, искать то, что их соединяет, а не отталкивает, не накапливать ненависть, которой и так сейчас — и помимо чеченцев — предостаточно: не страна, а пороховой погреб и едва ли не каждый ее обитатель — ходячий тлеющий фитиль. Однажды по телевидению Сергей увидел, как по жестокой грязи, подцепив тросами к танку, волокут тела убитых чеченцев, «боевиков». И внутренне ахнул: такое не простится никогда! — он знает этих людей, этот народ, жил с ними бок о бок и в Ногайской степи, и в интернате, где их особенно много появилось после Дагестанского землетрясения 1962 года (все войны и землетрясения начинаются грозным ревом, подземным грохотом, а завершаются детским, сиротским плачем), и в армии. Не простят! Может быть, действительно нельзя было извлечь из траншей и расселин трупы иначе, «вручную» и доставить их к месту захоронения. Вполне вероятно, что и зла, русской крови на этой банде немерено, что допекла она, достала, что делалось это не для камеры, а в горячке боя — и все же. Не простят. И дети будут помнить, и внуки, и правнуки.
Не снимали б тогда, что ли. А если снимали, чтоб запугать, застращать живых, то это еще более опасная глупость: не на тех напали.
И все-таки самое страшное не это. Жестокость, бесчеловечность вползает в нашу повседневность. Зарождаясь с отношения к врагу, самооправдываясь, перекидывается, как болезнь, и на все вокруг и внутрь каждого из нас. Зачастую уже и не осознаваемая таковой.