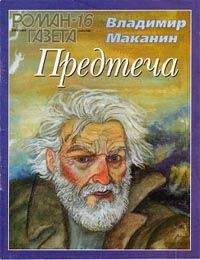Владимир Маканин - Повесть о Старом Поселке
— Да что же он не едет? — шепчет Калабанов шоферу.
Шофер тоже шепотком:
— Мнется что-то, понять не могу.
— Скажи ему, что я приказываю. И чтоб мигом!
— Есть!
Коля Двушкин такой приказ не то чтобы ожидал — предвидел. И потому тут же, еще до прихода шофера, собрал родню (а Двушкиных было немало) и устроил большую пьянку. Помидоры лежали на столе, а родичи уничтожали их под водку. «Щас, щас, — сказал Коля примчавшемуся шоферу, — не могу же я выгнать гостей». — «Каких гостей?» — «Да вот этих. Провожу их и приду». — «Да их вроде не было». Но Коля ему тут же рюмку водки в зубы, шапку в руки, шофер выпил — помчался.
А Калабанов как раз говорит представителю из Москвы:
— А ведь хорошо водочки с морозца? Верно?
— Верно, — говорит тот. — Да ведь с морозца-то уже час прошел. Пора бы и за стол сесть.
— Это сейчас, минуточку...
И Калабанов бросается к примчавшемуся шоферу, шепчет в коридоре: «Ну? Где Двушкин?» — «Гостей провожает». — «Каких гостей?.. Да что ж он, черт, тянет, рожает, что ли?» — «Нет. Пьют и помидоры едят». — «Ах, дьявол парниковый! Подлец! Убийца!»
Двушкин тем временем сидел очень собой и своей интригой довольный — с помидорами в Старом Поселке было покончено. Родичи орали песни, красавица жена подтягивала звонко и пьяненько, шум, гам — своя, так сказать, и родная картинка. Два ведра помидоров съели, третье ведро Коля им не дал — больно было смотреть. Коля хотел хоть какую-то извлечь эмоцию, ведь растил и старался, и вот он кликнул пацанов с улицы, своих и соседских, — они расхватали последнее, и это был уже финал, конец помидоров. И вот Коля сидит гордый и довольный и смотрит на влетевшего в дверь шофера. «Ну?.. Ну?.. Ну?..»
«Что „ну“? — говорит Коля. — Я, может, и пришел бы в гости. Да без помидоров неловко. Вроде обещал». За шофером влетает сам Калабанов. «Как это без помидоров?» — «Родичи поели. Не рассчитал». Калабанов скрежетнул, глядит — родичи один веселее другого, жуют, одно слово, молодцы, поработали. А там и сям помидорные остатки, червоточинки и задки. «Ну хоть один, — взмолился он, — остался? Ну хоть последний?» — «Нет, последний дядя Кузя съел. — И зовет, манит пальцем: — Кузь, поди сюда, подтверди».
Калабанов махнул рукой и выбежал.
Жена Калабанова в эти минуты, почуяв правду, начала готовить отступление. Гость томился. Курил. Ходил вокруг стола. Она дала ему рюмку водки:
— А вот и баранок возьмите. Румяные, а?.. Их у нас по-простому помидорами зовут.
— Баранки?
— Ну да. Так и говорят — красные помидоры. Она сжалилась (мужа все не было, гость явно голодал) и дала еще рюмку:
— Но вы же не из-за помидоров к нам в дом приехали. Наверно, нашу жизнь посмотреть?
Слегка тускнея, гость подтвердил:
— Ну ясно, не из-за баранок. Жизнь посмотреть — это я и хотел.
А Калабанов бегал по Поселку. И повторял своим работягам и их женам.
— Братцы, — говорит он, — ведь опозоримся, братцы!
Рабочие не знали, чем помочь. Их инженер стоял, протягивая руки, стоял сокрушенный: «Что же делать, братцы?» А что можно было делать?.. Из конца барака вывалились хмельные и орущие песни Двушкины. Подошел дядя Кузя, убивался, но вернуть съеденные помидоры уже никак не мог. И тут кто-то вспомнил, что видел своего пацана с помидором — тот по улице бежал. Кинулись искать, пацанов нигде не было. Выручил дядя Кузя, сообразил, что ребята залезли в уютный колодец отопления: «Они там всегда от холода прячутся». — «А что они там делают?» — «Как что? Курят, подлецы!»... К колодцу побежало человек десять — спешили, понимая, что пацан с помидором долго играть не станет. Калабанов свернул с тропки и, вонзая в снег сапоги, помчался напрямик по целине.
— Я же клялся!.. Я же обещал! — выкрикивал он на бегу, летел, весь расхристанный и без шапки.
За ним бежали другие, человек десять. С крыльца барака наблюдал за этой гонкой Коля Двушкин — счастливый и пьяненький, он думал о том, какой он молодец и как это правильно держаться от начальства подальше. Однажды тоже приехал большой начальник и вроде бы помидоры хвалил, обещал, что про Колю в журнал напишет. А потом окосел, лип к его, Колиной, жене и говорил: «Ах ты, моя рыбочка»...
У колодца отопления получилась заминка. Пацаны (и Ключарев помнит, что он сидел прямо на трубе, у распределительного крана) тут же и заблаговременно подняли крик и рев. Те, что не курили, орали и выли громче других. «Да вылазьте, мы вас не тронем!» — клятвенно кричали взрослые в темноту колодца. Наконец кто-то спустился вниз. Одного мальчишку подняли, и у него — у первого же! — был довольно крупный помидор. «Ур-ра!» — прокатилось над колодцем. Но это было и все, хотя нет, был еще один, маленький, — от ведра помидоров уцелело лишь два плода. И все-таки это были помидоры. Красные и свежие. Зимой. Их торжественно и бережно вручили Калабанову. И Калабанов, очень резкий, требовательный и временами жестокий человек, повторял и повторял:
— Братцы... Братцы мои.
Красные помидоры сыграли свою незаметную роль. Представитель из Москвы в свое время припомнил старопоселковского Калабанова. Нужно было выдвинуть кого-то, место, что ли, освободилось, и тут-то о Калабанове вспомнили. И ясно, что это не было какой-то особенной благодарностью за две помидоринки — просто память; помнилось, как томился голодный у стола больше часа, а стол был накрыт, и потрескивали в печке те самые алые чурки, и зима за окном... Так их, старопоселковский, Калабанов пошел в гору.
Выходец Поселка и после выдвижения оказался работягой и умницей — стали ценить. Он уже был крупной фигурой областного масштаба. Но натура подстерегала его. Сначала у него появился мотоцикл, первый мотоцикл в Поселке. «Эй!.. С дор-роги!» — орал он, несся с грохотом и треском, и мотоцикл тоже был под стать — злой и свирепый, как сам Калабанов. Жил-то он по-прежнему в Старом Поселке, но все чаще и чаще — люди это заметили — стал заезжать в недалекую от Поселка татарскую деревушку.
Командировки в Москву, поездки в область и татарская деревушка, и тут же в обратном порядке — деревушка с девушкой-татаркой, область и Москва. Так он и носился туда-сюда. Так и жил. Имя девушки-татарки Ключарев уже не помнит. Но помнит, что дальше все было просто. Жена Калабанова написала в управление жалобу — формулировка тогда была стандартная: моральное разложение. И Калабанову предложили образумиться и жить со своей семьей. «Ладно. Буду жить», — сказал Калабанов. Он был хитер, он согласился, рассуждая, как рассуждают все удачливые люди. Дескать, согласиться надо на словах, а удача не бросит. Дескать, время идет, страсть когда-нибудь да утихнет, возьму свое — а там, возможно, вернусь в семью. И он по бездорожью носился на мотоцикле к своей татарке и ждал повышения — его вот-вот должны были выдвинуть, теперь уже в Москву. Он ждал, а в управлении тоже ждали.
И тут надо сказать, что доносы строчила только жена. В поселке Калабанова любили. Конечно, в нем было разгульное и орал на людей он как зверь, но это было в порядке вещей, да и орал он по делу. Кроме того, он забыл о жене, но о Поселке не забыл. Он улучшил снабжение, построил дорогу, был построен и мост, связавший Поселок с растущим городом. И дело даже не в этой материальности, ведь не знаешь, за что любишь, — а его любили. И ведь выходец из наших, свой, как ни верти... И вот Москва ему отказала в повышении. Более того, строгий выговор.
— Грохнулся наш Калабанов, — говорили в Поселке, жалели его.
— Занесся, да не удержался, — и вздыхали, как о непутевом, но родном.
И тут он грохнулся еще раз, и уже навсегда. К нему в дом пришли все свои, поселковские, люди, выпили с ним, просили: «Петя, ты ж наша надежда», они хотели, может, совет дать, хотели, чтоб образумился, болели за него, все-таки он был их гордостью, а он топал ногами, кричал: «Подлецы! Завистники! Это вы строчили доносы!» — в конце концов как-то поладили. Говорят, песни пели, а Калабанов плакал. Но поздним вечером натура взяла свое — хмельной Калабанов вскочил на мотоцикл и помчался к своей татарочке. Может быть, решил в последний раз, как курильщик хочет «последнюю» сигарету. Переезжая речку на предельной скорости по ветхому мостику напротив татарской деревушки, Калабанов свалился и размозжил себе голову.
Понятно, его жалели. Мостик и сейчас зовется Инженерским — так прозвали его татары, а затем все остальные. Это стало маленькой легендой Старого Поселка, и, как всякая легенда, она обросла соответствующими подробностями и тонкостями. Говорят, что молодая татарка нашла косточку головы Калабанова, эту косточку обмыла и вместе с каким-то маленьким винтиком рассыпавшегося мотоцикла захоронила на своем татарском кладбище.
Деревушка называлась Айдырля. Татары принимали Калабанова настороженно, но, видно, тоже полюбили. Он кое-что для них делал, например устраивал татарских мальчишек в ФЗУ — сам их отвозил, сдавал в надежные руки, чтоб было и есть, и спать. Это, кстати, и оказалось началом распада деревушки. Сейчас Айдырли уже нет. Старые поумирали, молодые разъехались. Осталось лишь татарское кладбище. Затем и его распахали под хлеб. Где-то там, под волнующимися (ведь это уже в легенде) колосьями, и винтик мотоцикла, и косточка Калабанова.