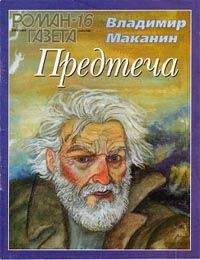Владимир Маканин - Повесть о Старом Поселке
Или вот. Тоже черточка. Восьмое марта. Смех, шуточки, то, се, а Иван Серафимович бродил по отделу со странным лицом. Он, разумеется, сроду бы не вылез из своего кабинета, но ведь Восьмое марта — он должен был поздравить женщин. И вот он двигался меж столов, поздравляя и клоня свою голову чуть набок (сама предупредительность). А напротив уборщица — пришла подмахнуть мусор,— и вот Иван Серафимович вздрогнул, поднял на нее глаза. «Вера Степановна», — тая улыбку, прошептал и подсказал Бусичкин ее имя.
— Вера Степановна, я поздравляю вас... э-э-э... и там, в приказе. Там... э-э-э... скромный денежный подарок.
И, проговорив это, Иван Серафимович смутился вконец, он пунцов и взмок от пота (угадать трудно, но думается, что во всей этой сложности есть та тонкость: он попросту стыдится своей большой зарплаты). И не то чтобы он был от природы неловок. Вовсе нет. В кабинете он говорит, как птица поет. Но тут, в отделе, в нем видели (и это он точно знал) начальника, и это-то его тяготило. Такой человек.
Или, скажем, кино по четвергам. Так сказать, общение с коллективом. Вне работы. Он знает, что общаться нужно, — знает, помнит это, вот ведь как. Обычно Иван Серафимович приглашает с собой Ключарева или Бусичкина, самое большее еще кого-нибудь. Втроем или вчетвером. В конце рабочего дня Ключарев (или Бусичкин) входит к начальнику в кабинет и спрашивает:
— Ну что?.. Отправимся в кино?
— Да, да. Четверг... Традицию нарушать нельзя. — При этом Иван Серафимович улыбается и протягивает Ключареву «Вечернюю Москву», вчерашний номер. Той стороной, где перечень фильмов.
Ключарев, устало зевнув, выбирает — водит пальцем по названиям. И спрашивает:
— На дю-дю пойдем?..
Так они называют детективные фильмы с погонями и слежкой. Маленькая страсть Ивана Серафимовича... Они заходят за Бусичкиным — и втроем через полчаса они уже в кинозале. Иван Серафимович смотрит, как ребенок, чуть приоткрыв рот и не отрывая глаз от мерцающего экрана. Он весь в другом мире. Он там. Конус света, темнота кинозала, вульгарная речь героев и медная музыка — это как бы освобождает душу Ивана Серафимовича. Все его сокровенное, мужское, заторможенное работой и однообразной жизнью, спрятанное вглубь, — всплывает. Это он стреляет, скачет и грубо (но, разумеется, с оттенком бла-ародства) покрикивает на обнаженную красавицу.
Затем они выходят из кинотеатра. Дю-дю кончился, и теперь ясно, что это был фильм. Только лишь фильм, притом глупый. Ивану Серафимовичу как бы даже совестно — он, как всегда, ни слова не скажет о кино, о только что виденном и слышанном. Они — втроем — будут говорить о работе, о статье Федорюка и о том, что же, в конце концов, соизволит решить министерство... И ни словца о своем, о внутреннем. И уже само собой, что никогда и ни при какой беде Иван Серафимович не примчится в отдел и не скажет, протягивая руки с вывернутыми ладонями: «Братцы... Братцы мои!..» На секунду Ключарев притормаживает иронию (ишь, разбежалась!). Он как бы ловит себя, подкусывает: а нет ли в нем, Ключареве, скрытой и, в сущности, рабской тоски по сильному начальнику?
И в конце штришок.
— До свиданья, — говорит Иван Серафимович, как обычно первый протягивая руку, крепкую при пожатии (подсознательное влияние кинухи).
— До свиданья.
— До свиданья. — И все трое разойдутся. Пообщались.
Вот такой он, Иван Серафимович. Начальник Ключарева. В общем-то Ключарев привык к нему, и давно привык. И если бы не тот хитроватый зам, не двадцать пять рублей в месяц и не щекочущая возможность выбора (впрочем, какой там выбор: шильце на мыльце!) — не стал бы он перемывать его начальницкие белые косточки. Косточку, как говорили в Старом Поселке, перемывать косточку.
Ключарев идет в кабинет начальника. Ивана Серафимовича там нет — в эти неопределенные дни он все больше торчит в министерстве. Забегает на работу на час-два и опять мчит туда. Вымаливает хорошую тему. Вымямливает.
Ключарев сидит за столом — один в кабинете. Мысль о начальнике идет своим ходом, а руки сами собой (он для этого и вошел в кабинет) берутся за телефон. Ключарев набирает номер. Он звонит некоей Лиде, и это он звонит не потому, что он этого хочет. Более того, он совсем не хочет. Но если не позвонит он, то уж точно позвонит она. И это будет хуже, если позвонит она. Надо с ней развязаться немедленно. Она вчера звонила. И позавчера... Три года не виделись, а теперь ей ни с того ни с сего вдруг вздумалось его, Ключарева, дергать.
— Лида, — говорит он, услышав ее голос, — я зря вчера тебе пообещал. Я не смогу прийти.
— Я так и знала.
— Не сердись, Лида. Не сердись...
Он пытается переломить виноватящийся тон, но поздно. Разговор получается плавающим и неопределенным. Слово за слово. То да се. Ключарев наконец кладет трубку и (он еще вспомнит этот разговор) сидит очень собой недовольный. Не собрался внутренне. Разговор — штука самотечная. Как бывает подчас самотечной и сама жизнь.
В кабинет входит Иван Серафимович. Полдня провел в министерстве (судя по виду — зря).
— Никак не могут они принять решение, — подтверждает Иван Серафимович. — Все тянут и тянут!
Обеспокоенный и взволнованный, Иван Серафимович тем не менее замечает кислость в лице Ключарева:
— Вы чем-то расстроены, Виктор?
— Самотечностью жизни. — И Ключарев смеется, отмахиваясь от тех мыслей.
Иван Серафимович тут же истолковывает это как намек на работу отдела:
— Не тяготитесь, Виктор. Не тяготитесь, ради Бога... Нам предложат, и, быть может, на днях, интереснейшую тему!
Ключарев отвечает, что он и не думает тяготиться. Если даже велят продолжать старую — тема как тема. Работать можно.
— Нет, Виктор, я не успокаиваю. Будет великолепная тема. Великолепная!
В этом Ключарев как раз не уверен — у него трезвый ум. Но охладить начальника он не успевает. Иван Серафимович уже воспламенился. Вспыхнул. Уже мечтает:
— Представь себе для начала, что нам дают проблематику Н-ского завода!
Иван Серафимович ходит по кабинету взад-вперед. Он не умеет увлечь других, зато он умеет увлечь себя. Всплеск души. Волна за волной. Иван Серафимович уже говорит о смысле работы. Он обобщает. Он вспоминает Данте. Люцифер, застрявший в самом центре Земли. Вергилий и Данте начинают спускаться по огромному мохнатому телу Люцифера. Вот его плечи. Вот, наконец, середина тела (пояс Люцифера, центр центра Земли), и тут... они как бы в невесомости разворачиваются и, продолжая спускаться, спускаются, но одновременно уже идут вверх!.. То есть в другую сторону Земли — как это могло произойти?
— Потрясающе! — всплескивает руками Иван Серафимович. — Чем тебе не мнимая ось?! И еще, на том же запале:
— Вот тебе и кривизна пространства! И когда? — в тихом средневековье.
И еще (и это, видимо, вершина его мысли):
— Вот так и в работе. Делаешь самую черную работу, спускаешься все ниже и ниже — и вдруг оказываешься уже в направлении творчества — ты понял?
И, уже понижая голос, уже с лирикой, с мягкостью:
— А главное — незаметно. Работал, корпел, мучился — и вдруг: раз! — и, не меняя направления хода, ты уже творец — понятно ли?
Ключареву понятно. Модель как модель, почему же не понять? — и отчасти даже увлекает, не без того.
— Все так. Но это ж до центра Земли сначала дойти надо, — улыбается Ключарев.
— А мы?.. За столько-то лет на этой каторжной теме?! Разве нельзя сказать, что мы дошли туда?
Ключарев пожимает плечами: может быть, да, а может быть, нет... И тут ведь не о чем спорить. И еще штришок. Маленький. Ключарев угадывает скрытую суть всех этих рассуждений: Иван Серафимович надеется. Он очень надеется, едва ли даже признаваясь самому себе. Он надеется, что на этот раз (пора, пора! ему уже пятьдесят лет!) — на этот раз его отделу дадут некую творческую тему в самом высшем смысле. Золотую жилу. Но одновременно (задним-то числом, ведь вот оно как!) Иван Серафимович готовит себя к министерскому отказу, то есть велят продолжать прежнюю тему, и... и Иван Серафимович будет самому себе объяснять, что еще, значит, не дошел он до центра Земли, не заслужил. В этом и суть. А ведь это черт знает что: думать ночами, мучиться, подтаскивать себе в помощь потускневшую космогонию Данте, и все лишь для того, чтоб своему родному и любимому «я» не сделать больно, в случае если заставят продолжать прежнюю тему... Ключарев сдерживает иронию. И думает, как бы это (и чтоб не обидя) сбить всплеск пятидесятилетнего романтика.
— Но можно, Иван Серафимович, и по-другому это представить...
И Ключарев говорит, что скорее-то всего Данте почувствовал недостаточность художественных средств. Данте просто рванулся наугад (и никакой тут кривизны пространства) — рванулся, ну а полет фантазии доделал дело.
— Мне очень жаль, — суховато чеканит Иван Серафимович. — Мне очень жаль, что вас устраивают такие бедненькие объяснения.