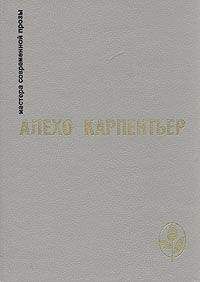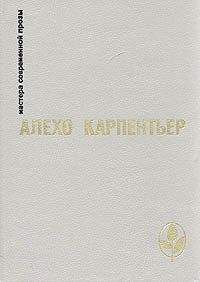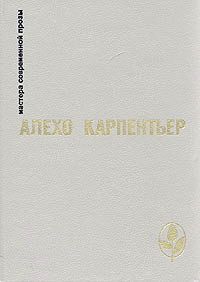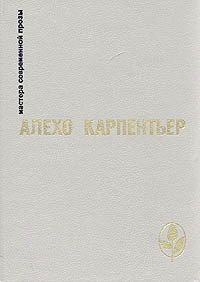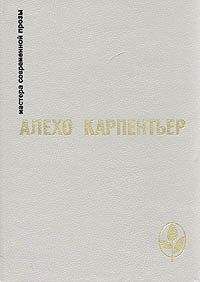Алехо Карпентьер - Превратности метода
Откровенно же говоря, матовая кожа моей дочери в самом деле подчеркивала ее красоту, красоту рафинированной индеанки. Она ни на йоту не унаследовала округлость лица, массивность ляжек и широту бедер своей святой матери, которая была типичной уроженкой наших мест. У моей дочери длинные ноги, плоская грудь, узкая талия представительниц новой расы, формировавшейся у нас там, дома. Ее волосы, завитые и взбитые, как того требовала мода, по природе своей гладки и не имеют ничего общего с копной мелких завитушек, которые наши соотечественницы старались выпрямить, поливая их знаменитым лосьоном Уокера, этого ловкача фармацевта из Нового Орлеана…
Осыпая меня нежнейшими ласками, Офелия просила, разрешить ей вечером, после званого обеда в Поло де Багатель, отправиться в путешествие. Ей хотелось побывать на вагнеровском фестивале в Байрейте, который открывался в следующий вторник оперой «Тристан и Изольда». «Oeuvre sublime!»[64] — воскликнул Академик и замурлыкал вступление, дирижируя невидимым оркестром. Затем он пустился в рассуждения о безмерной неге второго акта, о великолепном соло английского рожка в третьем акте, о хроматическом, пароксизмальном, жесточайшем нагнетании чувств в «Liebestod»[65] и спросил мою дочь, не пожелала ли бы она быть принятой на вилле Вагнера «Ванфрид». Насладившись театральными восторгами Офелии, для которой сия прославленная обитель, по ее выражению, была таким вожделенным, святым местом, что она и помышлять не смела о его посещении, Академик приблизился к моему маленькому бюро (или бару) «Буль-буль Санта-Инес» и взял листок бумаги. Ей следует передать это рекомендательное письмецо его другу Зигфриду, весьма способному композитору, хотя его произведения и исполняются довольно редко. Да и вообще… Как ему, бедняге, сочинять музыку, если он сын Рихарда Вагнера?.. И перо Академика закончило свою каллиграфическую вязь, уснащенную высокими ионическими буквами: «Voici, Mademoiselle»[66]. Просьба передать от него сердечный привет супруге Вагнера Козиме. Он предупредил Офелию, что места в Festspilchaus довольно неудобны. Но паломничество в Байрейт должен совершить каждый культурный человек хотя бы раз в жизни, как, например, это делают магометане, идущие в Мекку, или японцы, взбирающиеся на Фудзияму. Взяв письмо, украшенное ренессансной надписью с росчерком и жирными прописными буквами, Офелия снова набросилась с поцелуями на своего расчудесного папу, всегда доставляющего ей массу удовольствий, хотя я, по правде сказать, не выразил ни малейшей радости по поводу ее внезапного отъезда, который шел вразрез с моими планами: я думал поручить ей в ближайшее время роль хозяйки дома на приеме в честь главного редактора журнала «Ревю де дё Монд», где мне очень хотелось опубликовать большую статью об экономическом процветании и политической устойчивости моей страны. Поцелуи дочери, увлажнявшие мой лоб, были явным лицедейством и сплошной комедией, предназначенной для гостя, ибо в действительности она никогда не считалась с моими желаниями или настроениями, если ей что-либо взбредало в голову. Офелия нагоняла на меня настоящий страх своими приступами бешеной ярости, внезапно вспыхивавшей в ней, если я пытался противиться ее воле, — она начинала как безумная топать ногами, совать мне в нос кукиши и сыпать такой площадной бранью, какой можно набраться только в борделях, вертепах или бараках лесорубов. В такие минуты Инфанта, как величал её мой секретарь, без стеснения называла своими именами все то, что прямо или аллегорически изображено на Триумфальной арке. А после дебоша, достигнув цели, Офелия снова переходила к такому изысканному, такому грациозному способу выражения, что я иногда лез в словарь, чтобы узнать точный смысл того или другого существительного с прилагательным и приберечь их для украшения своих собственных речей…
Когда мы остались одни, внезапно помрачневший Академик заговорил о годах лишений, пережитых Рихардом Вагнером, и о том, что в нынешнее отвратительное время никто не ценит истинных художников. Нет ни Меценатов, ни мудрых Лоренцо, ни просвещенных Борджиа[67], ни королей, подобных Людовику Четырнадцатому или Людвигу Баварскому. Разве что одни Короли рулетки… Сам он, несмотря на сногсшибательную литературную карьеру, отнюдь не застрахован от нужды, мало того, спасаясь от судебных исполнителей в треуголках, которые не сегодня-завтра разнесут в щепы дверь его дома костяными набалдашниками своих жезлов (возможно ли такое в этом Великом столетии?), он с болью в сердце решился продать рукописи своих двух драм: первая «Робер Гискар» (историческая хроника, главные герои которой — нормандский полководец, его брат Роже и безумная Жюдит де Эврё). Эта драма была мастерски поставлена режиссером Ле Баржи и наделала много шума, когда провалилась. Вторая — «Отсутствующий» (трагедия совести: Давид и Вирсавия, чьи любовные свидания то и дело отравляются появлением призрака Урии, и т. д.) — выдержала более двухсот представлений в Theatre de la Porte Saint Martin, к великому огорчению паршивца Бернштейна, который замыслил написать пьесу на эту же тему… К сожалению, продолжал Академик, здешние, французские библиотеки сейчас не располагают средствами, и вызов в суд неизбежен: завтра люди в треуголках, размахивая жезлами с костяными набалдашниками… А впрочем, если… Национальная библиотека вашей страны… Дальше говорить было не о чем. Я тут же выписал чек — чек, который аи небрежно взял, словно сделав мне великое одолжение и даже не взглянув на выписанную сумму, хотя я почти уверен, что он ее уже знал, ибо пристально глядел на мою руку, выводившую цифры. «Ils sont tres beaux»[68], — сказал он. Через пять минут передо мной уже возвышались груды широких листов голландской бумаги, вложенных в кожаные бювары с металлическими экслибрисами автора. «Vous verrez…»[69] Массивный пакет, оставленный внизу, сюда тотчас принес Сильвестр. Я развязал веревочку, нежно погладил титульный лист с заглавием, каллиграфически выписанным цветными чернилами, и с рисунками на темы сюжета; медленно, благоговейно перелистал страницы и выразил признательность моему прославленному другу за то, что он избрал Библиотеку нашей страны для хранения этих бесценных манускриптов, Библиотеку, хотя и скромную, но таящую в своих архивах весьма ценные инкунабулы, флорентийские карты и ряд хроник эпохи Завоевания Нового Света. Заметив, что он слегка потирает руки, видимо, собираясь положить конец визиту, я встал будто для того, чтобы взглянуть на Триумфальную арку, и продекламировал: «Toi don’t la courbe, au loin s’emplit d’azut, arche demesuree…»[70] Не желая показаться неблагодарным, Именитый Академик взял свой цилиндр, белые перчатки и сказал, зная, как это мне будет приятно услышать, что в конце концов Гюго не такой уж плохой поэт, и вполне понятно, что мы, латиноамериканцы, будучи столь великодушными ценителями французской культуры, не можем не восхищаться его лирическим талантом. Однако и Гобино надо читать, надо изучать Гобино…
Я спустился с ним по лестницам, устланным красными коврами, проводив до самой двери. И только мы с Доктором Перальтой собрались было отправиться на Рю дез Акасиа в «Буа Шарбон» мосье Мюзара, как перед нами остановился таксомотор, из которого вышел необычайно взволнованный Чоло Мендоса. Судя по виду моего посла, произошло нечто из ряда вон выходящее, ибо лицо его лоснилось от пота — оно всегда лоснилось, но не так, — волосы причесаны на кривой пробор, галстук съехал на сторону, фетровые гетры на ботинках расстегнуты. Я хотел было съязвить по поводу его регулярных исчезновений в Пасси, Отёй или черт знает куда с какой-нибудь очередной блондинкой, но он протянул мне дрожащей рукой расшифрованные телеграммы Полковника Вальтера Хофмана, Председателя моего Совета министров. «Прочтите, прочтите…» «ИМЕЮ ЧЕСТЬ СООБЩИТЬ ГЕНЕРАЛ АТАУЛЬФО ГАЛЬВАН ПОДНЯЛ МЯТЕЖ В САН-ФЕЛИПЕ-ДЕЛЬ-ПАЛЬМАР С ПЕХОТНЫМИ БАТАЛЬОНАМИ 4 7 9 11 13 (ГВАРДЕЙСКИЕ ЧАСТИ «ЗА СВОБОДУ РОДИНЫ») С Тремя ПОЛКАМИ КАВАЛЕРИИ ВКЛЮЧАЯ ЭСКАДРОН «НЕЗАВИСИМОСТЬ ИЛИ СМЕРТЬ» С ПЯТЬЮ АРТИЛЛЕРИЙСКИМИ БАТАРЕЯМИ ПОД ЛОЗУНГОМ «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОНСТИТУЦИЯ ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗАКОННОСТЬ»…»
«Сволочь! Подонок!» — взвыл Глава Нации, отшвырнув телеграммы. «Я прочитаю вам», — сказал Чо-ло Мендоса, поднимая бумажки с пола. Восстание охватило три Северные провинции, грозя распространиться на побережье Тихого океана. Но гарнизоны и офицерство Центральных областей остались верны Правительству, Как уверял Хофман. Нуэва Кордоба не примкнула к мятежникам. Военные патрулировали улицы Пуэрто — Арагуато. Введено чрезвычайное положение, в результате чего, естественно, отложено на неопределенный срок восстановление конституционных гарантий. Газета «Прогресс» закрыта. Боевой дух правительственных войск высок, но не хватает оружия, прежде всего — легкой артиллерии и пулеметов «максим». Его Превосходительство знает, сколь предана ему столица. Ожидаются указания Президента.