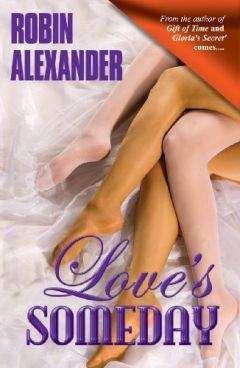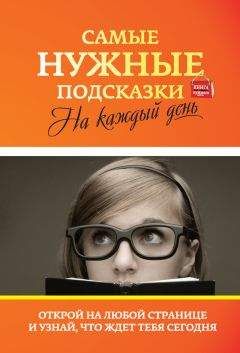Габриэль Витткоп - Каждый день - падающее дерево
Если бы не это везение, сегодня вечером в самолете осталось бы свободное место, которое в последнюю минуту продали бы какому-ни-будь человеку, и, вероятно, он бы очень этому обрадовался. Все между собой связано, и любая вещь зависит от мелочей. Ночной полет. В самолете реальные люди становятся двухмерными, превращаются в бумажные силуэты. Да разве я сама не лишена здесь плотности и любых ощущений, кроме чувства нереальности собственного тела, поскольку вышла за пределы слуха и зрения в их единственном мозговом выражении? Безвкусная, химерическая пища — уже не от мира сего, манна для эктоплазмы, призрачная еда. Все это стоит власти, предлагаемой полетом, отказа от земли, даже если этот отказ сближается с мыслью о смерти, с хорошо знакомым забеганием вперед. Ах, не смерти я боюсь. Мое сердце сжимает грусть оттого, что когда-нибудь я перестану существовать, мысль о том, что я исчезну, тогда как по-прежнему будут сменяться времена года и века, цвести деревья и падать снег. Эта боль от потери сознания и личности порой так остра, что способна внушить мне желание мгновенно умереть, дабы поскорее от нее избавиться. Но нет. Простофиля не прыгнет в реку, спасаясь от дождя. Я не собираюсь отказываться от заключенного мною пари дожить до глубокой старости.
Ночной полет. Достаточно пустяка, оконного стекла или мокрого от дождя листа, чтобы снять мое внутреннее головокружение, то самое, что охватывает, когда я шагаю по тесным галереям храмов, ссутулившись и уставившись в потолок, с перлами льда в волосах, и меня всасывают жерла всех пучин. В самолете — никакого головокружения. Невесомость, похоже, упраздняет всякое понятие длительности, развития, вырождения. Падение могло бы стать лишь немедленным воскрешением, возрождением. Отвергнутый богинями-матерями Икар погружается на дно пучины, падает сквозь морской ил: метеор, опрокинутый в центральный хаос, дротик, пронзающий ядро, — он вновь поднимается из грязи к сине-зеленому блеску, к белым животам акул. Икар воскресает у антиподов черной птицей — из звездчатых кораллов и морей, взметающихся к раскаленному солнцу.
В федеративной Германии Ипполита возвращается в свою привычную резиденцию — городок с минеральными водами, Rouletten-burg[11] Достоевского, с казино в конце аллеи - ее деревья служили проигравшимся виселицами ~ и похожими друг на друга санаториями в рододенровых садах. Она позволяет себе жить уединенно, не ходить в гости, не стремиться понравиться и не обхаживать «весь Париж». Она занимает упорядоченный лабиринт, в котором книги штурмуют потолки, — запутанное помещение с мадеровыми тенями, где косые, ярко-желтые лучи солнца могут вдруг вспыхнуть в зеркале или хрустальном яйце, погладить завиток вычурной мебели, коснуться облупившегося ангельского лика — Ignaz Günther fecit[12] — и даже остановиться в его взгляде. Летом в большой вековой груше, заслоняющей одно окно, перекликаются совы.
Германия, пыльная страна, где все как бы завуалировано, отстранено, молчаливо; страна, способная одним махом сложить крылья большой серой моли и подавить пульсацию в душе, если та окажется недостаточно сильной и плодовитой. Но это страна, которая, не умея развлекать, не вмешивается ни в размышления, ни в мечты и позволяет мыслям делать самостоятельные ходы. О немцах Ипполита не знает ничего, хотя, как ей показалось, замечает в каждом склонность к самоубийству. Итак, Германия. Этой страны следовало избегать, когда сразу после войны Ипполита, всегда плывшая против течения, там обосновалась. Главное — это место благоприятно для внутренних бесед, молчаливых или наоборот, ведь она обожает вести с собой диалоги вслух, долгие, прелестные разговоры, чтобы затем вновь обретать утехи молчания.
Радость возвращения после краткой остановки в Цюрихе. Хорошо знакомый пейзаж: шары омелы, сотнями цепляющиеся к тополям, и бирюзовые реки под бледным небом цвета «серый пейн». Северная зима. Даже летом этот запах снега, мертвый дух выпавших перьев, сброшенной шерсти, запыленной листвы, вечной зимы. Свет спасает все — огромное небо, бросающее сизые отблески на дома, березы, подстриженную траву, корзины для бумаги в скверах, скамейки и фонари. Здесь есть чистая и холодная безвкусица, качество атмосферы, напоминающее шифер и воду, лед и золу, но, возможно, есть и правдивость. Тем не менее, эту страну также можно считать пыльной, приглушенной, косвенной, представлять ее большой молью в резком свете.
2-е февраля. Торжественное возвращение к свету, древний праздник огня, праздник первозданных матерей. А также памятный день траура. (Забыть эту безысходную грусть, это туманное предположение.) Неожиданно, по воле одной газеты, — мне известны уловки таких импровизаций, — я встречаю изображение вазы Евфрония, хранящейся в Метрополитен-музее. Как продолговатые жуки-палочники, возможно, готовые взлететь, двое троянцев стоят по обе стороны группы, в центре которой — Гермес-психопомп, возвышающийся над телом героя со стыдным фармацевтическим именем Сарпедон; его останки поднимают Гипнос и Танатос. Кощунственная ассоциация с дядей, умершим в уборной и поддерживаемым двумя сыновьями, — но как мне совладать со слишком полным сходством всего изображения, как уберечь себя от бесконечных отражений в запретной игре аналогий? Да простит меня Гермес, да простят меня все божества. Фигура Гермеса смущает: крылышки на его лодыжках расположены задом наперед. Бюст, голова и руки, повернутые в сторону, противоположную движению, кажутся чужеродными тазу. Жест тоже двусмыслен: сетующий либо успокаивающий, но эта двойственность присуща самой природе Гермеса. Два брата тоже отличаются странным характером. Внешне похожие, а втайне разные, они представляют ребус. Лица близнецов с острыми бородками, почти одинаковые ястребиные крылья, по виду схожие шлемы с поднятыми забралами над подобными шевелюрами и тождественные хитоны, ниспадающие мелкими трубчатыми складками на бедра. При этом латы Гипноса украшены темными чешуйками, а доспехи Танатоса покрыты переплетающимися светлыми коготками. И главное — Танатос вооружен: на заднем плане виднеются рукоятка и ножны меча, наполовину скрытые за туловищем. В этой обстоятельной сцене, напыщенно изображенной чистыми линиями на черном фоне, почерпнутом у эгейских спрутов, вся драма и вся тайна сосредоточена в Сарпедоне — путнике, уже направляющемся к берегам Ахерона, где отражаются камыши, тополя и угрюмые ивы, которых нет на скульптуре, хотя они хранятся в памяти. Трижды пораженный, в бедро, живот и сердце, Сарпедон падает, словно срубленное дерево. Его руки — ветки, сдерживающие падение; руно над его половым органом окрылено, как вспорхнувшая птица; его икры в поножах кажутся жесткими, будто кора. Но стоит выпрямить изваяние, и мы обнаружим восторженного хориста, кружащегося на ногах, согнутых в неистовом танце. Его пальцы — лирные колки, шевелюра — трепещущая волна, и больше нет падающего дерева, а есть дерево, которое двойное движение, показанное Гермесом, примиряет с самим собой. Поворачиваясь с неизреченной улыбкой к ране, пронзившей сердце, Сарпедон раскрывает объятия тени, которой становится, и наконец воплощает самое давнее и сокровенное из своих желаний.
Ипполита, которой досконально известно о самом давнем и сокровенном его желании, обладает одной слабостью: она хранит в столе все свои старые эфемериды. Хотя ее демон — ангел тьмы, тьма эта весьма далека от хаоса. Впрочем, Ипполита, оставляющая мраку лишь определенные зоны, планы, благоприятные для редкостных зародышей, и охраняемые заповедники, никогда не позволяет себе забыть о том, что делает.
Календари... Эфемериды... Новый 4675-й год, согласно «И-Цзин». Заяц исчез вместе с последней луной, и мы вступаем в год Дракона, как учит «The Book of Canges»[13], которая стремится включить душу в великий извечный ход вещей, раскрыть ей органическую длительность, интегрировать ее во вселенские ритмы. Эта даосская мысль меня изумляет. И тревожит меня, тревожит, поскольку включение в эти вселенские ритмы означает потерю той личности, к которой я непрестанно возвращаюсь, которая непрестанно меня занимает, субъективной, ограниченной вещи — меня; я изучаю ее, не в силах до конца познать, а она вибрирует в жизни и трепещет перед смертью... «und doch wird er vor dem Tode beben». Vor dem Tode beben[14], безусловно. Но это «я», которое колеблется, отступает и меняется в своем развитии, исполнении и даже вырождении, неуловимом и всегда чарующем... Когда я стану продолговатой куколкой, похожей на того незнакомого покойника, украшенного желтыми венчиками, которого несли, будто дерево, к кострам; когда лоб мой станет восковым, волосы высохнут и поблекнут, а тело превратится в полый рог, где будут выть тритоны смерти; когда пальцы мои оденутся в перчатки из дряблой кожи, а глаза обызвествятся замученными морскими звездами; когда горло мое раздуется от кожаных водорослей, а мозг обернется протухшей устрицей, где окажусь я, где я тогда окажусь? Где окажется «я»?.. Sequence: when what is exhausting itself reaches the limitations of its exhaustion, it commences to re-manifest. Return implies resurrection. Cyclicity is principle of the universe[15]… Мне бы этого хотелось, как бы мне этого хотелось... И я думаю об исполинских священных фикусах у дверей храмов, которые вонзают ветки в землю в обратном движении герметической симметрии. Здесь же зима нетороплива и благоприятна для созерцания. Небо возвышается нехотя, а рассвет все еще погружен во тьму. Ипполите больше всего нравятся первые утренние часы, время вопрошания и ясности. Даже если поставленный вопрос так и не решен, он устремляется к холмам ликования. На заре, которая зимой — еще ночь, а летом - уже день, первый дрозд перекатывает пузырьки своего пения, пузырьки нежной слюны, которые переливаются алмазной пылью в кроне гагатового дерева.