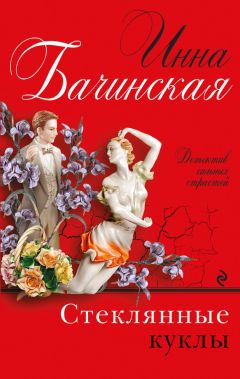Альберто Савинио - Вся жизнь
Capro (espiatorio) — Козел (отпущения)
Древние иудеи брали козла, перекладывали на него свои грехи и отправляли в пустыню, полагая, что тем самым облегчили душу и очистились. Этого козла, которого мы называем козлом искупления или отпущения, иудеи называли Азазель. Сам же ритуал, похоже, не иудейского происхождения, а скорее заимствован у древних египтян, поскольку менее многочисленный и цивилизованный народ перенимает обычаи у более многочисленного и цивилизованного народа, живущего с ним по соседству. Это подтверждается еще и самим именем Азазель, которое, по мнению раввинов, не является иудейским именем. Как бы то ни было, козел Азазель остается примером того, как разрешить моральную проблему (греховность) посредством практического действия (возложить собственные грехи на козла Азазеля и таким образом избавиться от совершенных прегрешений). Обычно человек не в состоянии иметь дело с идеями в чистом виде, поэтому ему необходимо придать им видимую, вещественную форму. Немногие вправе удивляться тому, что существуют козлы отпущения, а тем более потешаться над этим обычаем, ведь и поныне жизнь большинства из нас изобилует всякого рода козлами отпущения. Искусство, в конечном счете, тоже создается с помощью козлов отпущения; поэтому чисто абстрактное искусство, в котором «козел отпущения не виден», искусством даже не считается, особенно в латинских странах. Выдвигается довод, что искусство — это не философия. Однако подобный довод лишен всякого смысла, ибо та же философия, чтобы быть понятнее, обращается к козлам отпущения. Это явствует из философии Платона (хотя бы в «Теэтете») и прежде всего из философии Шопенгауэра, обязанной невероятной силой своего убеждения многочисленным козлам отпущения, к которым она обращается. Что еще? Чистая идея вызывает подозрение; именно поэтому пифагореизм, спиритуализм, идеализм вообще воспринимаются с некоторым недоверием. Наивысшим состоянием цивилизации должно, очевидно, быть такое состояние, когда все жизненные вопросы будут разрешаться посредством легкой игры чистых идей, без малейшей потребности в козлах отпущения, придающих идеям вещественность и плотскость. Нет смысла говорить, сколь благотворно было бы для нашего здоровья состояние, при котором вовсе не обязательно потрогать для того, чтобы поверить. Но доживем ли мы когда-нибудь до такого состояния? Я хочу сказать: находится ли подобное состояние в пределах человеческих возможностей? Вот где собака зарыта. Основной аргумент антиспиритуалистов заключается в том, что человек по своей природе не имеет ни возможности, ни права жить и помышлять о жизни в мире чистого духа. В это помышление католик включает и горечь греха, ибо, помышляя о жизни исключительно спиритуальной, человек помышляет некоторым образом о самообожествлении, а посему сохранение козлов отпущения является в конечном счете необходимым условием для поддержания порядка и сохранения иерархии. Добавлю, что если заслуга в изобретении козла отпущения принадлежит не иудеям, то она не принадлежит и египтянам. Более того, она вообще принадлежит не человеку, а лисе. У лисы нет грехов, зато часто бывают блохи. И вот каким образом она от них избавляется. Лиса вырывает пучок травы и делает из него катышек. Затем аккуратно зажимает этот катышек в зубах и входит в реку. По мере того как лиса погружается в воду, блохи перебегают на сухую часть ее тела. Потом лиса погружается в воду с головой, оставляя на поверхности только морду. Тогда в поисках спасения блохи перебираются на травяной катышек. Наконец, лиса полностью уходит под воду и в тот же миг отбрасывает катышек с блохами, который уносится течением прочь. Как знать, быть может, лиса называет этот комок травы, усеянный блохами, Азазель.
Civilta (alimentare) — Культура (питания)
Когда вы щупаете пульс человечества, когда составляете истории болезни, когда вычерчиваете сравнительные таблицы, когда пытаетесь установить «да» или «нет», «плюсы» или «минусы», вы, аналитики Истории, выбираете в качестве точки отсчета то, что считаете наиболее достойным для определения действительного или предполагаемого превосходства одного народа над другим. Но как ни грустно в этом признаться, вашим излюбленным критерием оказывается финансовая мощь. Ныне богатство есть качество посредствующее, и судьба его крайне изменчива. И если вы действительно решили определить объективный уровень цивилизованности данного народа, вам следовало бы подыскать другие, более надежные критерии для сравнения; и выбирать их следовало бы прежде всего из тех, что теснее связаны с «естественной» жизнью человека. Один из них — способ питаться. Как известно, Италия славится, помимо всего прочего, собственной, самобытной культурой питания. Это лишний раз свидетельствует о том, что из всех прочих культур итальянская культура является самой испытанной и законной. Если бы позволительно было взять питание в качестве мерила культуры, мы, итальянцы, вправе были бы рассматривать Германию и Англию, как рассматривал их Тацит. «Скажи мне, как ты ешь, и я скажу тебе, кто ты». На своем веку мне довелось познакомиться с кухнями обоих полушарий, и могу заверить, что итальянская кухня является самой логичной и «человечной» из всех: в блеске ее кухонной утвари как бы отражаются фундаментальные качества нашей расы. Питание у нас стало формой культуры, и это видно не только по тому, как продукты питания готовятся к столу, но и по чистоте, достоинству и честности, с которыми различные продовольственные товары представлены на наших рынках и в наших продовольственных магазинах. Если в один прекрасный день живопись и скульптура в Италии сумеют сравняться со стилем нашей культуры питания, мы сможем сказать, что снова имеем великую живопись и великую скульптуру.
Coscienza — Самопознание
Я никогда не доверял Сократу. (В краткой истории философии Шопенгауэра, составленной им для личного пользования, есть следующее тонкое замечание: «Не доверяю тем, кто не оставил ни одного письменного свидетельства собственной мысли».) Я никогда не доверял Сократу, но все же не так сильно, как с момента моего открытия и определения неисчислимого ущерба, нанесенного самопознанием человечеству. Этим милым подарком мы обязаны ему — человеку со вздернутым обрубком вместо носа, поборнику плебейских инстинктов и скудоумия, и его коварному, предвзятому толкованию Аполлонова «Познай самого себя». Самопознание уже существовало, но существовало как порок, который человек таил в себе и не намеревался вскрывать. И вот пришел он, недовольный, мстительный, завистливый плебей, антихудожник (хотел бы я взглянуть на эти статуи сына Софрониска[14]!), и превознес сей порок, узаконил его, дал ему право проявляться во всем его бесстыдстве — право возносить себя до небес. Всей пошлостью, глупостью, низостью, всей подлостью и убогостью жизни, всей лживостью искусства, которые неистовствуют с той поры и которые нам, досократовцам, все еще навязывают сегодня, мы обязаны ему — этой «повивальной бабке» самопознания.
Deliberazioni — Постановления
«Персы имеют обыкновение обсуждать наиважнейшие свои дела во хмелю, а наутро, с похмелья, возвращаются к тому, что сочли дельным накануне: коли находят дельным с похмелья — то принимают, коли нет — отвергают. Иной же раз напротив: прежде на трезвую голову дела вершат, а уж потом — во хмелю». Так утверждает Геродот в первой главе своей «Истории». Тот же способ выносить решения Тацит приписывает и древним германцам. Когда Геродот прочитал свою «Историю» на Олимпийских играх, она вызвала такой восторг, что всем девяти ее книгам были единодушно присвоены имена девяти муз. Трудно представить себе историка наших дней, скажем, Йохана Хёйзингу[15], с таким же успехом читающего свою «Осень средневековья» на Олимпиаде в Антверпене, Берлине или Лос-Анджелесе. Почему же сейчас невозможно то, что было возможно «тогда»? Первая книга «Истории» Геродота посвящена, как и полагается, Клио, которая по-гречески пишется kleio и означает «я закрываю». Имя самой суровой из девяти муз объясняет истинную роль истории, состоящую в том, чтобы постепенно «закрывать» наши деяния в прошлом, дабы сбросить с наших плеч их тяжкий груз и дать нам возможность каждое утро обретать новую душу, за неимением нового мира.
Donna (superiore) — Женщина (высшего типа)
Некоторым женщинам удается превзойти общий, крайне невысокий уровень женской умственной жизни. Но даже после того, как они превзошли этот уровень и получили право называться женщинами высшего типа, они не утрачивают природной женской «слабости», выражающейся прежде всего в неспособности женщины найти верный путь. (Впрочем, в основе любой формы слабости лежит все та же неспособность найти верный путь.) Итак, женщина высшего типа превосходит уровень обычной женскости — да, но далее она идет по пути, фатально являющемуся ложным, извилистым, «неверным». Творчество женщин высшего типа, литературное или живописное, может быть любопытным, привлекательным, даже пленительным, но в конечном счете оно неизбежно оказывается легковесным и бесполезным, так как лежит в стороне от верного пути. (Надо ли добавлять, что под «верным путем» я вовсе не разумею путь в направлении некой расхожей морали, а под «полезным» творчеством — творчество, содержащее в себе некую пользу: гражданскую, общественную, общечеловеческую или духовную?) Поэтому в женщине высшего типа — неважно, пишет ли она, рисует или просто говорит, — ощущается какой-то надрыв, какая-то избыточность, своеобычность, восприятие вещей шиворот-навыворот, перегиб. И этот надрыв необходим. Необходим, чтобы оживить, привести в движение, сделать притягательным что-то, что само по себе этого не заслуживает и само по себе «не тянет». Это все равно что пытаться врыть в землю амфору, которая иначе не устоит. Однако подобная жизнь эфемерна и обособлена в своей недолговечности. Отсюда — потребность в демонизме у женщин высшего типа. Отсюда — и то неприятное впечатление, которое производит на меня женщина высшего типа. Ее колючесть. Ее способность вступать в отношения с окружающим миром не иначе как с помощью колкостей. Впрочем, точно такое же состояние можно обнаружить и у мужчин — у женственных мужчин. Наиболее характерные примеры этого типа мужчин встречаются среди сюрреалистов: Андре Бретон, Сальвадор Дали… Надо заметить, что сюрреализм является весьма благотворной почвой для мужчины, неспособного найти верный путь. Из чего, однако, не следует, что сам по себе сюрреализм — это неверный путь. Как раз наоборот.