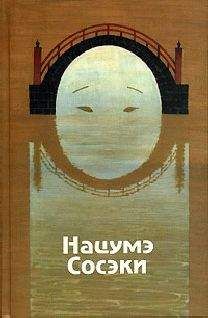Жан Жубер - Красные сабо
Я долго держался в стороне от них, и я знаю, что каждый подросток испытывает это неодолимое желание вырваться из привычного уклада жизни, грозящего ему спячкой, застоем. Мне было восемнадцать лет, и я задыхался в этой атмосфере. Впрочем, я испытывал скорее тоску, нежели приступы гнева, — привязанность к семье крепко сидела во мне, и я считал ее тогда своего рода душевной болезнью, от которой не так-то просто излечиться. Трудно восставать на тех, кто тебя так горячо любит. Домашние все еще считали меня ребенком, особенно тетя Алиса, усердствовавшая даже больше моей матери. Меня опутывала по рукам и ногам их любовь и забота, и я страдал от мысли, что заставляю их страдать. Потом я уехал учиться в Париж, но долго еще томило меня смутное ощущение виновности, и я ездил в Монтаржи почти каждую неделю. Жюльетта, с которой я уже был тогда знаком, жила у дальней родственницы, близ Орлеанской заставы; позднее она не раз упрекала меня: «Ты оставлял меня одну с этой сумасшедшей старухой, а она без конца говорила о раке да о гадании на картах. Как я жила все эти годы, чего я только не вынесла!» А я в субботу вечером укладывал чемодан и садился в поезд, идущий в Монтаржи. Я отвозил домой грязное белье и возвращался в понедельник утром, нагруженный банками с вареньем. Каким мрачным казалось мне это рабочее предместье с его крохотными домишками, крохотными садиками, с вечной копотью и туманами — жизнь тут застыла навеки, твердил я про себя. И мне хотелось бежать отсюда, но по-настоящему убежать мне не удавалось: даже когда я уезжал из Монтаржи, сердце мое по-прежнему оставалось там. Позже я побывал в Англии, в Германии, потом поселился в Лангедоке — там мне дышалось легче, и там я начал писать, я писал о Юге и долгое время верил — делал вид, что верил, — будто прочно укоренился в этих краях. Теперь-то я понимаю, что корни мои остались по-прежнему там, где прошло мое детство, в родной почве, которая одна способна напитать их, а тот, кто обрывает эти корни, умирает, пусть даже об этой смерти не догадываются окружающие.
Да, позади осталось много мертвых! Но осталось и несколько живых: они здесь, они могут еще о многом мне рассказать. Конечно, прежде всего моя мать и Симона, одна из сестер моего отца, которая живет на другом конце Монтаржи в блочном доме, на холме, и еще Жаклина, дочь дяди Жоржа. После смерти отца она живет одна в их доме в Клозье. Некогда Клозье было почти деревней, но потом сады там уничтожили, а на их месте понастроили высотные башни, и теперь домик Жаклины кажется совсем крошечным среди этих великанов из стекла и бетона. От сада и огорода почти ничего не осталось: клочок земли двадцать метров на двадцать, несколько грядок, две-три яблони и альпийская ель, которую тетя Жермена когда-то давно привезла в горшочке из-под горчицы и которая с тех пор сильно разрослась. Она старается, растет, бедняжка, из последних сил, но никак не может заслонить собою бетонные глыбы домов. Новый город остановился здесь, словно бульдозер, наткнувшийся на скалу, но, похоже, он набирается сил и скоро шагнет дальше, сметая все на своем пути.
Симона, Жаклина… да, я навещу их, я объясню им, попытаюсь разговорить…
А потом, есть ведь знаменитые «Мемуары» Жоржа, написанные им в возрасте восьмидесяти лет, когда он наконец закрыл свою мастерскую. Он писал их как в лихорадке, день и ночь, страницу за страницей, и они даже были напечатаны. В моей библиотеке в Лангедоке есть эта книга, я хорошо помню, на какой полке она стоит — рядом с Руссо, Дидро и Толстым, любимыми дядиными писателями. Я нарочно поставил ее между ними, пусть побудет в хорошей компании. Я взял у матери экземпляр дядюшкиной книги и рассматриваю фотографию на обложке. Жорж снят в своей мастерской в профиль, он в синем комбинезоне и толстом брезентовом фартуке, перехваченном поясом. Одной рукой он держит за носок сабо, упирая его в верстак, другой сжимает ручку ножа — длинного лезвия, приделанного к железному кольцу, — такими ножами выдалбливают и режут дерево. За дядиной спиной голая облупленная стена. Я столько часов провел рядом с ним в этой самой мастерской, что до сих пор еще явственно помню свежий запах стружек, к которому примешивались запахи кожевенной мастерской, расположенной на другой стороне улочки. Жорж рассказывал, медленно подыскивая нужные слова, продолжая орудовать своим ножом.
Да, он по крайней мере оставил после себя эту книгу, и я сейчас опять раскрываю ее: начало я знаю слово в слово.
«Я родился 30 августа 1884 года, в теплый солнечный день, как мне потом рассказывали, на хуторе Бодекур деревни Биньон-Мирабо, моя мать была швеей, а отец — сапожником. В деревне этой и сейчас еще стоит статуя великого трибуна…»
И эти слова, которые давно уже стали для меня как бы классикой, я вновь и вновь перечитываю с жадным любопытством.
Мне хочется перенестись в далекое прошлое, к самым истокам нашей семьи. Но тут я вступаю в область неведомого и блуждаю наугад среди слабых проблесков света. Это попытка проникнуть поистине в период доисторический, ведь свидетели его либо умерли, либо все перезабыли. В таких безвестных семьях нет ни генеалогического древа, ни актов, ни грамот, умершие исчезают, не оставляя по себе иной памяти, кроме убогих крестьянских домишек и крошечных садиков — заброшенные, они сразу же зарастают сорняками, так что лет тридцать спустя только груда едва обтесанных камней да чуть более темная под пореем земля указывают на то, что здесь некогда жили люди. Что ж, они хоть не претендовали на бессмертие. Они занимали крошечную частичку времени и пространства, потом скромно сходили со сцены. История не хранит ни их лиц, ни речей, ни жестов, ее привлекают лишь вершины, пусть даже ложные или призрачные. А мои предки растворились в безымянной массе крестьян, рабочих, солдат. У этих голодных статистов роскошных кинобоевиков, где горстка избранных звезд занимает авансцену, не было другого средства обратить на себя внимание, как взяться за ножи и пустить кровь благородным сеньорам. Но я смело могу сказать: мои предки были не из тех, кто выхватывает нож, разве что во время какой-нибудь пьяной драки, а такой факт и вовсе не заслуживает упоминания. Убийца Генриха IV Равальяк несет нации трагедию; но кого интересует какой-нибудь браконьер-неудачник, пойманный лесничим! Мои предки ковырялись в земле, рубили лес, пекли хлеб, шили одежду. У них была одна цель — выжить, а в остальном они не видели дальше собственного носа. Я знаю, жизнь их была окрашена в серые тона нужды и покорности судьбе.
Вот что подсказывают мне те скудные сведения, которые я терпеливо собираю по крохам. Моя мать протягивает мне фотографию:
— Погляди, я думаю, это твой прадед.
Я подношу к глазам желтый, местами порыжевший снимок, на который сырость наложила темные расплывчатые пятна, похожие на цветочные узоры.
Действие происходит в саду. На заднем плане несколько яблонь, беседка, увитая виноградом, угол крытого соломой навеса. Мужчина сидит на стуле выпрямившись, положив руки на колени. Рядом с ним тачка. Он пристально смотрит в объектив. Верно, фотограф скомандовал: «Замрите!», нырнул под черную накидку и завозился там, согнувшись в три погибели, воздев кверху руку с затвором, а сидящий на стуле замер в ожидании, серьезно и немного испуганно глядя прямо перед собой. У него красивое лицо с правильными чертами, усы и курчавые бачки — украшение не совсем обычное для сельского жителя. Но его руки по-крестьянски тяжелы и крепки и, даже праздно лежащие, таят в себе удивительную силу. За его спиной стоит несколько женщин в блузках и длиннополых юбках, они застыли в напряженных позах, вытянув руки по швам: это, без сомнения, служанки, скорее всего кухарки, ведь снимок сделан в замке, где-то в Турени. Я спрашиваю:
— Где это?
Мать не знает точно.
— Где-то в Турени.
Больше она ничего не может сказать. Фотографию случайно обнаружили между бумагами. Всегда считалось, что на ней снят прадед, но даже мой отец не был до конца в этом уверен. Тем не менее фамильное сходство бросается в глаза. Прадед был садовником, к тому времени, то есть к шестидесяти годам, уже успел овдоветь, а дети разбрелись кто куда, ушли на завод, где обещали хорошо платить.
Это, верно, либо воскресенье, либо праздничный день; господ нет дома, уехали. Слуги пообедали все вместе в огромной кухне: на столе жаркое с овощами — правда, прислуга ест мясо не чаще одного раза в неделю, — пирог, кувшин с вином. Служанки хихикают, подталкивают друг друга локтями. А он сидит во главе стола, и обед начинается не раньше, чем он вытащит и раскроет свой нож, и подают ему первому, потому что он старше всех и потому что он мужчина. Чей-нибудь родственник, кузен, приехал из Орлеана с новеньким фотографическим аппаратом, и по окончании обеда он объявляет, что сейчас будет «снимать портрет». Женщины прихорашиваются, одергивают кофточки, подкалывают шпильками шиньоны, а старик кончиками пальцев разглаживает усы. День пролетает незаметно за разговорами об урожае, о погоде, о родственниках. В шесть вечера все ужинают и укладываются спать пораньше, «с курами», под теплые пуховые перины, в своих каморках.