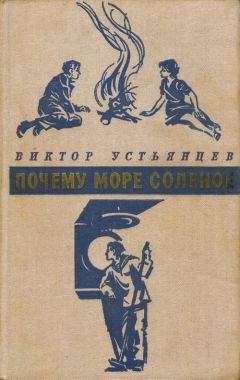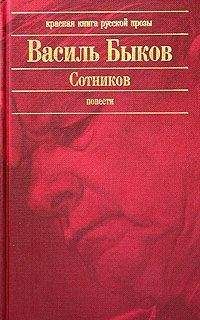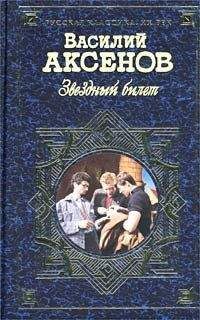Василий Аксенов - Золотая наша железка
Его несло, несло через пороги стыда, по валунам косноязычия, бессовестным мутным потоком пошлости, графомании, словоблудия и неизбывной любви, жалости, воспоминаний, а впереди поблескивало зеленое болото похмелья.
— Я беру у вас одиннадцать копеек, — вдруг холодным чужим тоном сказал «старик», «кумир Марьиной Рощи», будущий верный спутник в золотом нефтеносном Эльдорадо, и Ким сразу прикусил язык, понял, что зарвался.
— Да бери всю валюту, старик, — пролепетал он. — Бери все сорок восемь.
Мясистый щетинистый палец со следом обручального кольца подцепил два троячка и пятачок, спасибо.
— Да как же ты опохмелишься на одиннадцать копеек, старик? — пробормотал Ким.
— А это уже не ваше дело, — зло и устало сказал кумир, резко повернулся, шатко прокосолапил прочь, прошел за стеклянную стенку на холодное солнце и заполоскался на ветру — обуженные штанцы, широченный пиджак, остатки шевелюры из-под кепи — все трепетало, а кепка вздулась пузырем. К нему подошли двое: один малыш, почти карлик с большим лицом, важный и губастый, и второй, обыкновенный старичок в обыкновенном пиджачке, но в шелковых пижамных брюках. Троица в приливе неожиданной бодрости развернулась против ветра и, набычившись, целеустремленно и дельно зашагала. Должно быть, малая сумма, изъятая столь непростым путем у неизвестного фрея, как раз и гармонизировала для них это ветреное солнечное холодное утро.
Они шли, как показалось Киму, крепко и определенно, они, все трое, были на своем месте в это утро, причем огромный проситель был явно не главным в троице: он был тут явно мальчиком, эдаким Кокой или Юриком, он весело, по-мальчишески подпрыгивал и заглядывал карлику в суровое спокойное лицо.
— Боже мой, что же я за человек такой? — с неожиданной тошнотой подумал Ким и впервые тогда понял, что тошнота — это стыд и тоска.
Что же я за человек такой
Ненастоящий, нелепый, неуклюжий, недалекий, как я всегда тянулся к настоящим ребятам и как часто мне казалось, что я сродни им — уклюжий, лепый, далекий…
Но если бы я мог вспомнить — ловил ли я на их лицах мимолетное снисхождение, тень понимания моей жалкой сущности? Нет, этого не было никогда, они всегда относились ко мне, как к равному, — и на Памире, и на Диксоне, в подвальчиках Таллинна и на Сахалине, на Талахне, на Эльбрусе, в Разбойничьей бухте, на Карадаге, в Якутии и на Крестовой… Вот если только вспомнить все до конца, уж до самого конца без поблажек, тогда, может быть, и мелькнет в темноте смешливая и немного недоуменная искорка, которая всегда (ВСЕГДА?) — да вовсе и не всегда, а лишь только вначале… если уж быть единственный раз в жизни смелым до конца, то всегда появлялась (мелькала, а не появлялась), да, мелькала в глазах у этих настоящих парней при виде меня: а этому, мол, чего здесь надо? Была эта искорка? Была! Но все-таки настоящие ребята никогда не издевались надо мной, на то они и настоящие ребята.
Да вот и сейчас можно отмахнуться и прекратить дурацкий мазохизм. И снова вперед, как парусный флот, палаточный город плывет… Да, Кимчик, тебя все-таки неплохо знали в этих палатках на Карадаге, и Кунашире, и во времянках на Талахне… Ах, что же я за человек с ложными воспоминаниями? Ведь не был же я на Кунашире. Ну сознайся, старик, самому себе — не был ты на Кунашире. Десять лет ты уже рассказываешь, как был на Кунашире, а на самом деле там не был. Ты сам совершенно — или почти совершенно — убежден, что был на Кунашире, и видишь как наяву дикий кунаширский пляж с выброшенными и отмытыми Пасификом добела корнями американских деревьев, с обломками ящиков, разбухшими ботинками, рваными оранжевыми штанами китобоев, яичными прокладками и бутылочками из-под тоника. Ты видишь отчетливо и того раненого морского льва, который с диким упорством пытался преодолеть стену прибоя. Об этом льве тебе рассказывал кто-то в южносахалинском буфете, и ты присвоил себе этого льва и весь кунаширский берег.
Я мог бы быть на этом островке. Что тут особенного — побывать на Кунашире? Просто три дня была нелетная погода, а потом уже кончилась командировка, и надо было возвращаться в редакцию… Черт с ним, могу и отказаться от этого жалкого Кунашира. Мало ли я путешествовал — можно и пожертвовать крохотным Кунаширом.
На Кунашире? Нет, ребята, на Кунашире мне не пришлось побывать. Шесть дней была нелетная погода, снегу в Южном навалило до второго этажа… Итак, решено-я не был на Кунашире…
В таком случае надо отказаться и от ледового патруля и вычеркнуть из воспоминаний «эти тяжелые волны, которые вот-вот заденут крыло, когда мы в нелетную погоду шпарим с Юркой Мельниковым из Охотска в Магадан за бутылкой водки».
Да разве я трусил? Я никогда не трусил! Я ведь как раз собирался полететь с Мельниковым в ледовую разведку, но наш вездеход застрял в тайге, и мы всю ночь проваландались с ним, а когда приехали на аэродром, увидели самолет Мельникова уже в небе.
Ну и нечего присваивать себе «тяжелые волны, которые едва не задевают за твое крыло, когда ты в нелетную погоду шпаришь из Охотска в Магадан за бутылкой водки».
Не буду присваивать. В ледовую разведку я не летал, у меня, и кроме этого, немало ярких эпизодов в биографии: вулканы, гроты, гитары, костры… и снова вперед, как парусный флот, палаточный город плывет… Как-никак я на короткой ноге с тремя космонавтами, с Валеркой Брумелем, Володечкой Высоцким…
Почему— то эти первоклассные парни моего поколения находят время, чтобы и выпить со мной, и поговорить по душам. Я знаю джазистов и пантомимистов, менестрелей, подводников, скалолазов, альпинистов, гонщиков, танцоров, режиссеров, писателей, вулканологов, арктических летчиков и философов, и множество девушек, старики, не прошли незамеченными мимо меня.
Ах, что же я за человек такой — чего же я вру сам себе про девушек? Почему же я сам себя утвердил в ложном эдаком донжуанизме, почему я сам себе киваю с ложной эдакой многозначительностью и грустью — эх, мол, девушки шестидесятых годов?… Есть ли на свете человек более несмелый с девушками?
Это вечное кружение девушек в моем кабинетике в «Дабль-фью», этот каскад хохмочек, мимолетные поцелуи, эти взгляды исподлобья… Да ты, Морзицер, просто фавн, сатир какой-то, сказал мне однажды Вадим Китоусов. Вадим, умница, смельчак, вечно дрожит над своей Риткой. Ха-ха, Вадим, сказал я ему, может быть, я и сатир, может быть, и монстр, но законов дружбы я не переступал никогда. Спроси у кого хочешь — хотя бы и у Эрика Морковникова или у Крафаилова, у Пашки Слона, спроси хотя бы у Великого-Салазкина — все тебе ответят: хоть Кимчик у нас и сатир, но законов дружбы он не переступал никогда. Да, сказал Китоусов, успокоенный, это верно — законов дружбы ты не переступал.
Только он ушел, как я посмотрел в зеркало и подумал, про себя уже на всю оставшуюся жизнь: ох, и сатир же ты, Морзицер, глаза у тебя и рот, как у неутомимого козлоногого грека. И все мои сердечные раны: ужасная, нелепая женитьба на Полине, позорное бегство из Феодосии от Генриетты, переписка с Мяс-никовой — все это укатилось в темноту, и я тут же убедил себя, что я мужчина особого рода, с особым ярким мускусным флюидом, и лишь верность святым законам дружбы мешает мне предаться… и так далее…
И Рита перестала приходить ко мне в кабинет и часами сидеть с ногами на диване в сигаретном дыму и в «тианственном», сводящем с ума молчании.
Я один — стареющий, с полурасплавленной челюстью, с запущенной язвой, с утренней пакостью во рту — негерой, неталант и непросточеловек и даже не алкоголик, как тот, что попросил у меня одиннадцать копеек… Кто виноват в том, что я такой? Мои тетки, декадентные старые девы? Их нелепое воспитание, отсутствие в доме «мужской руки»? В самом деле — вот результат стародевичьего воспитания: ведь не было же у меня ни отца, ни дядьев, чтобы научить плавать, ходить на лыжах, управлять мотоциклом, бить по зубам обидчиков. Ничему этому тети мои не учили меня, а лишь вскармливали мое сиротское тело, лишь пестовали его сэкономленными желтками и вот вырастили тяжеловатого, отчасти, будем честными, вислозадого, угреватого мужика, склонного к замедленному обмену и фурункулезу.
Зачем же ты грешишь на старух, Ким? Тетя Софа идеально знала английский и старалась (безуспешно) тебе его передать, а тетя Ника, пианистка серебряного петербургского века, несколько раз на коленях просила тебя сесть к инструменту. Они пытались тебе что-то передать и все-таки передали — именно «что-то», может быть, более важное, чем навыки плавания или фортепианной игры.
Я помню какой-то вечер, резко и безоглядно порванные бумаги, свирепые струи ветра сквозь аллеи Летнего сада и красный с прозеленью закатный ветер, прогнувший внутрь в квартиру голубоватые стекла и обозначивший, отчетливо и навсегда, тонкие бескомпромиссные профили теток. Вот в этот вечер они тебе что-то и передали, когда стояли неподвижно, каждая в своем окне, а потом с наступлением темноты приблизились друг к другу и быстро обнялись.