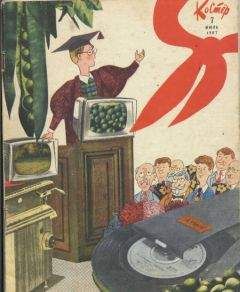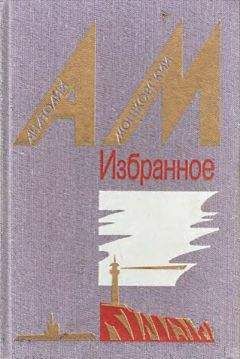Туве Янссон - Дочь скульптора
Утром очень важно не начинать уборку слишком рано. И если впустить в комнаты печальный свежий воздух, кто угодно может простудиться или прийти в дурное настроение. Важно, чтобы переход к новому дню был очень медленным и ласковым. При дневном свете все видится совсем иначе, и если разница слишком велика, можно все испортить. Нужно мирно расхаживать и ощупывать все своими руками и думать о том, чего тебе, собственно говоря, хочется.
А хочется всегда, каждый день, но ты по-настоящему не знаешь, чего тебе хочется. Но под конец думаешь, что, может, тебе хочется селедки. И тогда ты заходишь в кладовку и смотришь, а там и в самом деле лежит селедка.
Затем день медленно движется вперед, и наступает новый вечер, и, быть может, зажгут новые свечи. Все ужасно боятся друг друга, они ведь знают, как мало нужно, чтобы утратить равновесие и поссориться.
Я ложусь спать и слышу, как папа настраивает балалайку. Мама зажигает керосиновую лампу. У нас в спальной окно — совершенно круглое. Оттуда можно смотреть через все крыши и через гавань, и все окна вокруг становятся черными, кроме одного. Это окно под большим пустым брандмауэром Виктора Эка[6]. Свет горит там всю ночь. По-моему, там тоже пируют. А может, иллюстрируют книги.
АННА
Как прекрасно было смотреть на Анну.
Волосы Анны росли, как жесткая, но сочная трава, они торчали, словно обрубленные, во все стороны, и в них было столько жизни, что просто искры летели. Ее брови были такие же черные и густые, как волосы, и срастались на переносице, нос — плоский, а щеки — очень румяные.
Когда она мыла посуду, ее руки походили на столбы, опущенные в воду. Она была красива.
Когда Анна моет посуду, она поет, а я сижу под кухонным столом и пытаюсь выучить слова ее песни. Я дошла до тринадцатой строфы песни об Яльмаре и Хульде, а собственно говоря, только тогда и начинает что-то происходить.
«И тогда входит Яльмар в ратных доспехах, и арфы поспешно смолкают, взбешенный идет он к вероломной невесте, и невестин венец со светло-каштановых ее волос сильной рукою срывает; бледная, словно на смертном одре, смотрит Хульда со страхом безумным в трепещущей груди на дрожащую от жажды мести руку возлюбленного…»
Тут начинаешь содрогаться от страха, и это так прекрасно. Точь-в-точь как когда Анна говорит: «Выйдите ненадолго, потому что сейчас я заплачу», — это так прекрасно!
Возлюбленные Анны тоже часто являлись в ратном облачении. Больше всего мне нравился драгун в красных штанах и с шитьем на мундире, драгун был такой красивый. Он всегда отставлял свою саблю в сторону. Иногда она падала на пол, и я слышала бряцанье даже наверху, на моих антресолях, и думала о его длинной, дрожащей, отмщяющей руке. Затем он исчез, а у Анны появился новый возлюбленный, который был Человеком Мыслящим. Поэтому он ходил на лекции и слушал про Платона и презирал папу, читавшего газеты, и маму, читавшую романы.
Я объяснила Анне, что мама не успевает читать другие книги, кроме тех, к которым она рисует обложки. Ведь ей надо знать, о чем говорится в этой книге и как выглядит героиня. Некоторые художники рисуют так, как они чувствуют, и плюют на писателя. Этого делать нельзя. Иллюстратор должен думать и о писателе, и о читателе, а иногда даже об издательстве.
— Ха-ха! — воскликнула Анна. — Поганое издательство, раз оно не издает Платона. А вообще-то хозяйка все, что она рисует, придумывает сама, а в последней книжке волосы у героини на хозяйкином рисунке не были золотистыми, как должны были быть на самом деле.
— Краски дорогие! — рассердилась я. — И вообще, некоторые книги идут только на пятьдесят процентов с цветными рисунками!
Анне совершенно невозможно было объяснить, что издательству не нравится многоцветная печать и что редакторы только и делают, что болтают чепуху о двухцветной печати, хотя и знают: один цвет во всех случаях должен быть черным, и все равно можно нарисовать волосы так, что они будут казаться золотистыми.
— Вот как! — фыркнула Анна. — А позвольте спросить, какое это имеет отношение к Платону?
Тут я забыла все, что хотела сказать с самого начала. Анна всегда сваливала все в одну кучу и всегда оказывалась права.
Но иногда я мучила ее. Я заставляла ее без конца рассказывать о своем детстве, пока она не начинала плакать, а я, встав у окна, только раскачивалась с пятки на носок и с носка на пятку и смотрела во двор. Или, не переставая, строго спрашивала, почему у нее опухшее лицо и швыряла ей совок с мусором через всю кухню. Я мучила Анну тем, что бывала любезна с ее возлюбленным и сидела, расспрашивая без конца о том, что их вовсе не интересовало, и совсем не собиралась уходить. И еще был один очень хороший способ мучить Анну — это высокомерно-томным голосом сказать: «Госпожа желает к обеду в воскресенье телячье жаркое» — и выйти в тот же миг, словно мне с Анной больше говорить не о чем.
Анна долго мстила мне с помощью Платона. А какое-то время был у нее возлюбленный, который представлял собой Глас Народа, и тогда она мстила мне тем, что рассказывала о старушках-газетчицах, встававших в четыре часа утра, пока хозяин лежал и прохлаждался в ожидании газеты «Хувудстадсбладет»[7], Я сказала, что ни одна старушка-газетчица не работала целую ночь, как папа, когда шла отливка гипсовых скульптур для конкурса, да и мама работала каждую ночь до двух часов, пока Анна лежала и прохлаждалась. Тут Анна сказала, не касаясь подробностей, что в прошлый раз хозяин вообще никакой премии не получил! Тогда я закричала: «Это потому, что жюри было несправедливое!» А она закричала, что так легко говорить, а я — что она ничего не понимает, она не художница, а она — что можно задирать нос, когда другой человек не брал даже уроков рисования… После этого мы несколько часов не разговаривали.
Когда же мы вдоволь наплакались, я снова вышла на кухню, и тогда Анна повесила одеяло над кухонным столом. Это означало, что мне разрешено строить под ним дом, если я не буду путаться под ногами на кухне или у дверей кладовки. Я строила дом с помощью стульев, табуреток и обрубков поленьев. Собственно говоря, я делала это в знак вежливости, потому что гораздо лучше дом получился бы под большим вращающимся шкивом, на котором ваяют скульптуры.
Когда дом был готов, она дала мне немного фарфоровой посуды. Ее я тоже приняла только из вежливости. Я не люблю делать вид, будто готовлю еду. Я ненавижу еду.
Однажды на рынке не оказалось черемухи к первому июня. А маме в день ее рождения черемуха необходима, иначе она умрет. Это предсказала цыганка, когда маме было пятнадцать лет, и с тех пор все ужасно мучились с этой черемухой. Иногда она распускается слишком рано, а иногда слишком поздно. Если ее сорвать в середине мая, края листьев станут бурыми, а цветы так никогда и не распустятся. Но Анна сказала:
— Я знаю, что в парке есть белая черемуха. Мы пойдем и нарвем ее, когда стемнеет.
Стемнело ужасно поздно, но мне все равно пришлось идти с Анной, и мы ни слова не сказали о том, что собирались сделать. Анна взяла меня за руку, ее руки всегда были теплыми и влажными, а когда она двигалась, вокруг нее распространялся какой-то жаркий и немного пугающий запах. Мы пошли вниз по Лотсгатан, потом пробрались в парк, и я совершенно онемела от ужаса и думала лишь о стороже в парке, о городском управлении и о Боге.
— Папа никогда бы этого не сделал, — сказала я.
— Нет, потому что хозяин слишком буржуазен, — ответила Анна. — Берут то, что нужно, вот так-то.
Мы перелезли через забор раньше, чем до меня дошло то неслыханное, что она сказала, — будто папа буржуазен.
Анна подошла прямо к белому кусту посреди лужайки и стала рвать черемуху.
— Ты рвешь неправильно! — зашипела на нее я. — Рви правильно!
Анна, очень прямая, стояла в траве, широко расставив ноги, и смотрела на меня. Она засмеялась всем своим широким ртом так, что стали видны ее белые зубы все до единого. Снова взяв меня за руку, она присела на корточки, и мы пробрались под кустами и стали тихонько красться. Мы подкрались к другому белому кусту. Анна все время смотрела через плечо и иногда останавливалась за каким-либо деревом.
— Этот куст лучше? — спросила она.
Я кивнула и пожала ее руку. Она начала рвать цветы. Она протягивала вверх свои громадные ручищи так, что платье обтягивало всю ее фигуру, и смеялась, и ломала ветки, и цветы дождем сыпались на ее лицо, а я шептала: «Кончай, кончай, хватит!» — и была вне себя от страха и восхищения.
— Уж если красть, так красть, — спокойно ответила она.
В ее руках была огромная охапка черемухи, она ложилась ей на шею и плечи, и Анна крепко держала цветы своей большой красной рукой. Мы снова перелезли через забор и пошли домой, и никто — ни сторож из парка, ни полицейский — так и не появился.