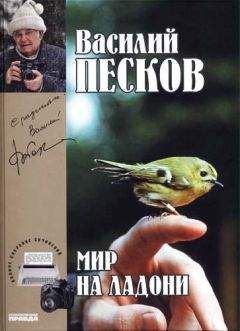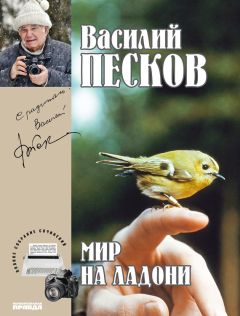Александр Иванченко - Монограмма
Если не поможет и это, ученик должен вспомнить, что тот, кого он теперь так страстно ненавидит, когда-то, в уходящем в глубь тысячелетий бесконечном круговороте рождений и смертей, обязательно был уже его близким другом или родственником — сыном, дочерью, отцом, братом, сестрой, матерью, женой, мужем. Он должен думать: «Кого я ненавижу? Свою бывшую мать, носившую меня под сердцем, кормившую меня грудью, холившую и лелеявшую меня, воспитавшую мою силу, не пожалевшую бы и самой своей жизни ради моего спасения? Или, может быть, я ненавижу своего сына, которому отдал всю теплоту своего сердца, вскормил и вспоил его, отдал ему свое мужество, молодость, силу, разум?» И т. д.
Если и это не помогает, и ученик не может подавить враждебности, он должен вспомнить одиннадцать превосходных качеств Майтри-Бхаваны, которых достигает йогин в результате успешной медитации (даются ниже).
Если ненависть все еще не подавлена, ученик должен предпринять следующее исследование в отношении своего врага. Углубленный и сосредоточенный, медитатор обращается к себе со словами: «Слушай, такой-то! Когда ты гневаешься против своего врага, то против кого ты гневаешься и кого ненавидишь? Гневаешься ли ты против волос его головы или его ногтей, печени, селезенки, сердца? Или, может быть, против его крови, против зубов, против кожи, или против желудка, полного нечистот, — или против какой-нибудь другой из 32 частей тела? Не стыдно тебе? Где же твой разум? Или, может быть, ты гневаешься против пяти элементов, из которых составлено его тело, — земли, воды, огня, воздуха, пространства? Или, может, против пяти скандх — формы (рупа), ощущения (ведана), воли (санскара), восприятия (санджня), сознания (виджняна), из которых состоит его психофизический организм? Где, собственно, опора для твоей неприязни? Что здесь можно ненавидеть?» Такой беспристрастный анализ убедит ученика, что гнев его беспредметен, ибо всякое существо лишено какой-либо постоянной сущности и является лишь безличным конгломератом разнородных элементов, скандх, и свойств, объектом непрерывного изменения, возникновения и уничтожения в каждый миг бытия. Нет никакой опоры для нашей ненависти ни к чему — как нет опоры у горчичного зерна на кончике иглы. Но для этого ученик должен признавать безличность самого себя.
Ученик, не способный к такому беспристрастному анализу, должен просто обменяться подарками со своим врагом. Это умиротворяет обоих. Однако, если средства к существованию у его врага нечисты, он должен уклониться от подарка, чтобы не воспринять вместе с даром зла дарителя. Он лишь совершает свое подношение в смирении и с любовью — и расстается с недругом. Теперь его ненависть, несомненно, будет исчерпана, и он с успехом продолжит медитацию. В благородном ученике, однако, не возникает даже мысли о вражде, и он быстро идет вперед. После медитации на нейтральном человеке такой ученик сразу переходит к медитации на любви-доброте ко всем живым существам, в чем быстро достигает успеха.
Медитируя так, йогин достигает безмятежности разума и равного отношения к четырем: к себе самому, самому дорогому человеку, нейтральному существу и врагу. Он разрушает всякое пристрастие к кому бы то ни было в отдельности и относится ко всем с одинаковой приязнью. Теперь, когда йогин достиг этого, он излучает майтри ко всему миру, ко всякому живому существу во вселенной и проникает своей любовью все пространство вокруг. Он направляет волны добра на все живое и мысленно повторяет: «Пусть все существа на востоке, видимые и невидимые, близкие и далекие, большие и малые, сильные и слабые, рожденные и только еще ищущие рождения, — будут свободны от вожделения, будут свободны от ненависти, будут свободны от заблуждения, будут счастливы». И то же — на западе, севере, юге, северо-востоке, юго-востоке, северо-западе, юго-западе, вверху, внизу — именно в такой последовательности.
Одиннадцать блаженств возникает в том, кто практикует майтри: счастливый, он легко засыпает; счастливый, он легко пробуждается, подобно раскрытому лотосу; он не видит дурных снов; он дорог людям; он дорог всем существам; девы (боги) оберегают его пути; огонь, яд и меч пройдут мимо него; он быстро концентрируется; его лик безмятежен и светел; он умирает без смятения и с ясным сознанием; если он не идет дальше (то есть не достигает Ниббаны), то рождается в небесах Брахмы так же легко, как если бы пробудился от сна. Такова сила майтри.
Разобрав литературу, разнеся статистику, сделав самые неотложные утренние дела, Лида снимает халат и идет в свой «красный», как она его называет, «уголок» — в тесненький закуток за дальними стеллажами, ее прибежище и защиту. Здесь она немного отдыхает, сосредоточивается перед выходом к читателям, пьет кофе. Любимая чашка, майолика, зеркало. Отхлебнув глоток и подобрав волосы, она долго, сосредоточенно смотрит в зеркало и тихонько шепчет, едва шевеля губами: «Хорошая Лида, красивая, умная, молодая…» А затем, усмехнувшись и показав себе язык, шепчет на ухо зеркалу: «Плохая: глупая, некрасивая, старая, злая». И рассмеется беззвучно, остановив глаза на глазах своей бледной двойницы.
№ 1–4. Приютил их у себя многодетный бедняк Петро Тихий, сосед. Петро, пожив с неделю в их просторной избе, попив-погуляв на радостях новоселья, потом решительно с нее съехал. Бегом прибежал в свою небеленую тесную мазанку, спасаясь от зубастых хуторян. Те смеялись над ним, что он живет в «кулацкой хате», и он не стерпел, вернулся, выпростав из привязанной к потолку корзинки Галининого дома двух девочек-близнецов, волоча по земле длинные застиранные пелена. Были эти девчонки смугленькие, сопливенькие, но крепенькие и коренастенькие, как капустные кочерыжки. Остальная орава, с пожитками, толпилась за его спиной. Встал Петро на пороге со своими огрызками и заорал, натравливая на Галину сивого кобеля:
— А ну, выметайтесь с моей бедняцкой хаты, мироеды! Кончилось ваше время! Тобик, куси!
Кобель, незло гавкнув, увильнул во двор, хорошо зная щедрую на кость и кашу соседку, а Петро свалился пьяный на лавку, выставив свой ехидный кадык. Проспавшись, он пошел во двор, принес молоток и досок и хмуро стал пристраивать к потолку узенькие полати. Закончив, незло замахнулся на детей Галины и сказал:
— Наверх! Не баре! Сами по полам скитаемся! — И, отхлебнув из четверти, сел за стол.
Дети, радостно взвизгнув, полезли на верхотуру, а Галина протянула ему серебряную с чернью ложечку, спрятанную от комсомольцев за пазухой. Петро отмахнулся:
— Ладно, живитя! Потом разочтемся! Вот с ей расплотишься! — кивнул он в сторону своей цыганистой жены Муськи. Та ложечку тотчас у Галины выхватила и, отогнув цветастый подол, сунула ее за резинку чулка. За детьми на полати увязался и дед Федос.
Передали Петру и часть их пожитков и корову Надю. Сердце сжималось, когда видели они на Петрухином клопяном столе свою глиняную праздничную посуду, весело расписанную дедом Федосом, как хлебала из неё похлебку, пила Надино молоко многошумная Петрухина детвора. Корову Петро никогда не держал, даже обращаться с ней не знал как. Сначала попросил поучить его дойке, а потом и вовсе на него батрачили за избу.
Все лето дети Галины пасли корову за околицей, косили и возили вместе с матерью сено, за то давал им Петруха по кружке парного Надиного молока. Норовистая Надя доить к себе чужих не подпускала, пытались обмануть ее, на какие только хитрости не пускались: то душегрейку Галинину Муська, Петрова жинка, на себя напялит и в ней подлазит под корову, то ее косынку с чунями, то просто возьмет с собой хозяйку. Надя не давалась, крутила рогами, мычала, и Галина, жалеючи скотину, садилась сама, плача вперегонки с коровой, обливая заигравшие от жалости руки молоком.
Так прожили у Петра лето. Осенью он сказал Галине, что его вызывали в сельсовет и приказали, чтоб он согнал их с хаты.
— Куда ж, не сказали? — тихо спросила Галина. — Зима на дворе.
— Не знаю, — махнул рукой Петрю. — Куда хошь. Я за вас не ответчик. И так на хуторе подкулачником зовут.
— В сарай-то хошь пустишь? — жалобно попросила Галина, выставляя вперед пошедшую уже Груню.
— Разрешат ли? — засомневался Петро.
— Разрешат, разрешат! — радостно засуетилась Галина. — Я уговорю. Неуж мы совсем вороги? Мы газету читали!
В сарай разрешили. Так она с детьми и отцом ту зиму на соломе в сарае Петрухи и перемогалась под неустанную жвачку Нади, запах ее парного навоза да кудахтанье тощих Петрухиных кур. Про Василия вестей никаких не было, говорили, что всех увезли в город. Она ждала.
Жили неголодно. Днем ходили по хутору и кусочничали, подавали хорошо, и хлебом, и салом, да крадче они еще сдаивали немного у Нади молока в надбитую деда Федоса кринку. Корова словно понимала, старалась, оставляла молока и своим бывшим хозяевам, давала в ту зиму на литр — на два больше. Дед к молоку почти не прикасался, а уступал все своей любимой внучке Груне, подсовывая ее иногда прямо под Надино вымя ртом. Груня, уцепившись в Надино весноватое вымя, сосала, чмокая губенками, подбадривая корову кулачком.