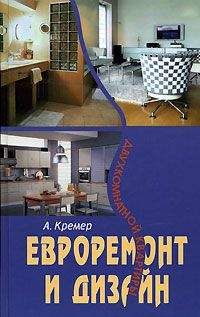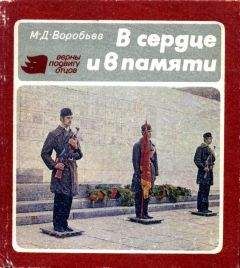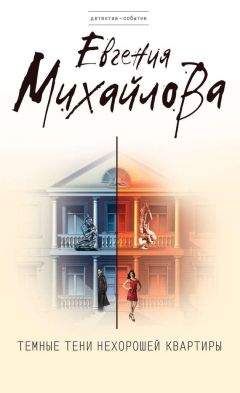Сильвио Пеллико - Пеллико С. Мои темницы. Штильгебауер Э. Пурпур. Ситон-Мерримен Г. В бархатных когтях
Дальше первого слога не мог идти. Снова начал: «Мад!.. Мад!..» и бесполезно. Я показался самому себе смешным и вскричал в досаде: «Глупый! А не Мад!»2.
XII
Тем и кончился мой роман с этой бедняжкою. Но я еще долго обязан был ей добрыми чувствами. Бывало часто хандрил я, но голос ее разгонял мою печаль; часто, думая о порочности и неблагодарности людей, я раздражался, я переставал любить весь мир, но голос Маддалены возвращал меня к состраданию и снисхождению.
— О, неведомая грешница! Да не будешь ты осуждена на тяжкое наказание! Или на какое бы наказание ни была ты осуждена, да послужит оно тебе на пользу, да облагородишься ты через него и через него же да живешь и умрешь ты достойной любви Господа! Пусть жалеют и уважают тебя все те, кто знает тебя, как жалел и уважал я тебя, не зная! Да вдохнешь ты в каждого, кто бы ни увидел тебя, терпение, кротость, жажду добродетели, веру в Бога, как вдохнула ты их в того, кто, не видав, полюбил тебя! Мое воображение могло ошибаться, представляя тебя красивой телом, но твоя душа, в чем я убежден, была прекрасна. Твои подруги говорили грубо, а ты — стыдливо и скромно; они богохульствовали, а ты благословляла Бога; они ссорились, а ты улаживала их ссоры. Если кто-нибудь подаст тебе руку, чтобы свести тебя с дороги бесчестия, если кто-нибудь осушит твои слезы, да снизойдут все утешения на него, на детей его и на детей детей его!
Смежно с моей камерой была другая, в которой жило несколько мужчин. Я слышал и их разговоры. Один из этих мужчин заправлял другими, может быть, не потому, что он был выше других по своему положению, а скорее в силу некоторой смелости и уменья красиво говорить. Он выдавал себя за доктора. Споря, он заставлял молчать спорящих повелительным голосом и запальчивостью слов, предписывал им то, что они должны думать и чувствовать, и те после некоторого сопротивления кончали тем, что признавали его правым во всем.
Несчастные! Ни один из них не уменьшал неприятностей тюремной жизни, питая хоть какое-нибудь нежное чувство, хоть сколько-нибудь религиозности и любви!
Предводитель моих соседей поздоровался со мной, и я отвечал ему тем же. Спросил он меня, как я провожу эту проклятую жизнь. Я отвечал ему, что для меня нет проклятой жизни, как бы печальна она ни была, и что до самой смерти нужно стараться пользоваться прекрасным даром — мыслить и любить.
— Объяснитесь, синьор, объяснитесь.
Я объяснился, но меня не поняли. И когда после искусных подготовительных речей я решился привести ему в пример ту кротость, которая пробудилась во мне голосом Маддалены, он разразился громким хохотом.
— Что такое? Что такое? — закричали его товарищи. Предводитель пересказал мои слова, и все хором захохотали, так что я остался в дураках.
В тюрьме бывает все то же, что и на свободе. Те, которые полагают свою мудрость в том, чтобы на все негодовать, на все жаловаться, все унижать, считают величайшею глупостью — сострадание, любовь, утешение, доставляемое прекрасными мыслями, которые славят человечество и его Творца.
XIII
Я оставил их смеяться и не возразил ни полслова. Два или три раза соседи обращались ко мне, но я молчал.
— Нет его у окна, отошел от него, прислушивается к вздохам Маддалены, обиделся на наш смех.
Так говорили они, пока, наконец, их главарь не приказал замолчать тем, которые прохаживались на мой счет.
— Молчите вы, дурачье, коли не знаете, какого дьявола вы тут говорите. Не такой большой осел наш сосед, каким вы его считаете. Вы не способны ни о чем поразмыслить. И я помирал со смеху, да одумался. Все бездельники умеют неистовствовать, как вот мы это делаем. А вот немного побольше кроткого веселья, немного побольше добросердечия, немного побольше веры в благодеяния Неба — все это, как вы думаете, что обозначает? Скажите-ка искренно!
— Вот и я теперь о том думаю, — отвечал один, — мне кажется, что все это есть признак того, что несколько получше бездельничества.
— Верно! — громко вскричал вожак, — на этот раз я опять начинаю питать уважение к твоей башке.
Не особенно возгордился я тем, что был признан ими только несколько лучшим бездельником, чем они, однако, я почувствовал некоторую радость, что эти несчастные поняли значение добрых чувств.
Я двинул рамой окна, как будто бы только что вернулся. Меня окликнул их вожак… Я ответил ему в надежде, что он хочет серьезно побеседовать со мной. Я ошибся. Пошлые умы избегают серьезных рассуждений: если истина иногда и осветит их, они способны с минуту рукоплескать ей, но скоро после того они отворачиваются от нее и, желая похвастаться здравым смыслом, сомневаются в истине и шутят над ней.
Затем он спросил меня, не за долги ли я в тюрьме?
— Нет.
— Может быть, обвиняетесь в мошенничестве? Разумеется, ложно обвиняетесь?
— Я обвиняюсь совершенно в другом.
— В какой-нибудь любовной истории?
— Нет.
— В убийстве?
— Нет.
— В карбонарстве?
— Именно.
— А что это за карбонарии?
— Я их так мало знаю, что не смогу сказать вам про то.
Один из секондино с гневом прервал нас и, осыпав ругательствами моих соседей, обратился ко мне со строгостью не полицейского, а скорее учителя, и сказал: «Стыдитесь, синьор, позволять себе разговоры с подобными людьми! Знаете ли, что это — воры?»
Я покраснел, а потом устыдился того, что покраснел, так как позволять себе разговоры с такими людьми скорее хороший поступок, чем плохой.
XIV
На следующее утро я подошел к окну, чтобы увидать Мелькиорре Джойа, но уже больше не вступал в разговор с ворами. Я ответил на их приветствие и сказал, что мне запрещено разговаривать.
Пришел актуариус, снимавший с меня допрос, и объявил мне таинственно, что пришли ко мне и что это посещение доставит мне большое удовольствие. И когда ему показалось, что он уже достаточно подготовил меня, он сказал: «Одним словом, это ваш отец, если угодно, пожалуйте за мной.»
Я последовал за ним вниз, замирая от радости и стараясь придать себе ясный и спокойный вид, который бы успокоил моего бедного отца.
Узнав о моем аресте, он надеялся, что меня задержали по пустому подозрению, и что я скоро выйду. Но видя, что арест все еще продолжается, он приехал ходатайствовать перед австрийским правительством о моем освобождении. Жалкая иллюзия отцовской любви! Он не мог считать меня столь безрассудным, чтобы я подверг себя всей строгости законов, а напускная веселость, с какою я говорил с ним, убедила его, что мне нечего бояться какого бы то ни было несчастия.
Краткая беседа, какую дозволили нам, взволновала меня невыразимо, тем более, что я и виду не подавал, что я взволнован. Всего труднее было не выказать этого при расставании.
При тех обстоятельствах, в которых находилась тогда Италия, я был твердо уверен, что Австрия даст пример чрезвычайной строгости, и что я буду осужден или на смерть, или на долгие годы заточения. И скрывать это от отца! Обманывать его, высказывая ему основательные надежды на скорое освобождение! Не залиться слезами, обнимая его и говоря ему о матери, о братьях и сестрах, которых уже больше, я думал, не увижу на земле! Просить его голосом, в котором бы не слышалось горькой тоски, чтобы он еще раз, если может, пришел повидаться со мной! Ничто никогда не стоило мне таких усилий.
Он ушел совершенно успокоенный мною, а я вернулся в свою камеру с разбитым сердцем. Лишь только я остался один, я надеялся облегчить свои страдания слезами. Но не было для меня и этого облегчения. Я разразился рыданьями и не мог пролить ни слезинки. Невозможность выплакать свое горе есть одно из самых жестоких страданий, и, о, сколько раз я испытал его!
Меня свалила жестокая лихорадка с сильнейшей головной болью. За весь день я не проглотил и одной ложки супу. «Пусть эта болезнь будет смертельна, — говорил я, — хоть бы она сократила мои муки!»
Глупое малодушное желание! Бог не внял ему, и я благодарю Его за это не только потому, что после десятилетнего заточения, я снова увидал мою дорогую семью и могу назвать себя счастливым, но также и потому, что страдания придают достоинство человеку, а я хочу надеяться, что они не были бесполезны и для меня.
XV
Спустя два дня вернулся отец. Всю ночь перед тем я спал хорошо, и от лихорадки не осталось и следа. Непринужденно и весело встретил я отца, и никто бы не узнал, как страдал я и что еще теперь разрывает мне сердце.
— Думаю, — сказал мне отец, — что через несколько дней тебя отправят в Турин. Мы уже приготовили для тебя комнату и будем ждать тебя с большим нетерпением. Служебные обязанности принуждают меня ехать домой. Постарайся, прошу тебя, постарайся поскорей присоединиться ко мне.