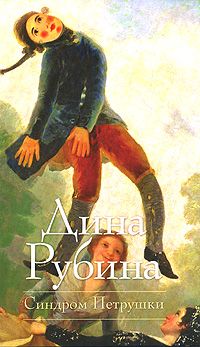Сергей Кузнецов - Хоровод воды
Маленький мальчик лежит в колыбели, кружева, ленты… Интеллигентное отцовское лицо склоняется над ним. Мишенька, сынок, говорит отец. Поблескивают стекла пенсне.
Никита, Мореухов и Эльвира будут называть этого мальчика дедушка Миша.
Мы видим их как сквозь снежную пелену, едва различая лица и фигуры: множество людей, родители дедушки Макара, дедушки Гриши, бабушки Насти, бабушки Оли, бабушки Джамили… разбросанные по городам и деревням Российской империи, они ничего не знают друг о друге, о будущем, о внуках и правнуках, которые объединят их.
Не станет империи, не станет России, потом – Советского Союза, и вот 7 февраля 2005 года мы, их потомки, соберемся на кладбище, и снег будет падать так же, как сто лет назад, – разве что слегка побуреет от копоти и гари МКАД, от въевшегося запаха московской окружной, где машины движутся по кругу, словно молекулы воды в школьном учебнике: вода, пар, дождь, снег; возгонка, испарение, конденсация, замерзание; вечный водный круг, мельничное колесо, колесо рождений и смертей, похорон и крестин.
Поднимем глаза к небу: из белой пустоты летят белые хлопья, как в финале романа Эдгара По. Представим: эти хлопья – материальное воплощение взгляда умершего, взгляда с небес. Пусть Александр Мельников увидит, как гроб покачивается над черной дырой в снежном покрове. Пусть в последний раз взглянет на людей, с которыми прожил свою жизнь: вот его дочь обнимает за плечи женщину, с которой он развелся, вот его племянник обнимает за плечи мужчину, который его предал. Вот по дорожке спешит женщина, которую он когда-то любил. Говорит:
– Я опоздала.
Тушь на лице, разумеется, смазана. В такой-то снегопад. На таких похоронах.
Мореухов обнимает ее за плечи – теперь композиция завершена. Двое мужчин. Две женщины. Мужчина и женщина.
Дети и родители.
Не гляди на нас, дядя Саша: скоро ты встретишь Бога и ангелов. Это я, Александр Мореухов, пытаюсь смотреть твоими глазами. Ты верил в загробную жизнь – в семидесятые стало модно верить, вот ты и верил. Пусть она для тебя и случится, небесные ангелы, добрый Бог на снежном облаке, вечное райское блаженство. Ты много передал мне, а эту веру – не смог. Хотя я, конечно, считаю себя православным.
Я смотрю вверх, на падающий снег, представляю в его мелькании белоснежные перья ангелических крыл, но думаю: дядя Саша смотрит не с небес, а из гроба, из деревянного ящика, на последних качелях взлетающего над мерзлой черной дырой.
Для взгляда умершего крышка прозрачна. Сквозь нее видно, как снег летит вниз, как небо раскачивается в такт движениям могильщиков, спускающих гроб в яму. Видит, как вместе с белоснежными невесомыми хлопьями в лицо летит грязь, темная, схваченная морозцем. Слышит стук, и вот уже всё черным-черно, спустилась ночь, последняя ночь, ночь мертвых мертвецов, из которой не подняться, не вырвать руку из земли приветственным жестом, салютом всех зомби мира, не пробиться сквозь крышку Умой Турман, не увидеть зимний солнечный свет.
Я представляю в гробу дядю Сашу, моего отца, могильщики заравнивают землю, мама начинает всхлипывать, цепляется за мою руку. Я никогда не спрашивал, кто мой настоящий отец. Разве это важно? Ты можешь сам выбрать себе отца – особенно если мужчина, которому ты обязан отчеством, за всю жизнь не сказал тебе ни слова.
Вот он, Василий Мельников, стоит поодаль под руку с Никитой, моим братом. Двоюродным или сводным – зависит от того, кого я выбираю в отцы.
На Никите хорошее пальто. Не знаю, как такие называются. Буржуйское пальто. Если бы я по-прежнему верил в революцию, я бы занес Никиту в расстрельные списки. Но я уже много лет не верю в революцию. Ни в красную, ни в черную, ни в оранжевую.
Иногда мне нравится представлять себе, как живет Никита. Я знаю: у него какой-то бизнес. Кого-то разводит. В смысле – домашних животных. Кажется, рыбок.
Мы уходим с кладбища, почти ничего не сказав друг другу. В самом деле, на похоронах положено выражать соболезнования близким покойного. Но кто из нас был ему близок? Моя мать, которую он любил когда-то (думаю, всю жизнь)? Жена, которая развелась с ним, когда я родился? Дочь, которую она забрала у него?
Я, я был ему самым близким человеком! Ко мне они должны подойти, пожать руку, заглянуть в глаза, пролепетать что-то, снедаемые чувством вины, раздавленные моим страданием, моим одиночеством! А они толпятся вокруг тети Тани, его бывшей жены, женщины, которую он никогда не любил! Они говорят слова соболезнования Эльвире, которая отреклась даже от своего имени и стала Аней!
Я тоже отказался от своей фамилии, но это совсем другое дело.
Мама тянет меня за руку. Неужели и она хочет выразить им соболезнования? Нет, слава богу. По занесенной снегом дорожке молча идем к выходу. Наверное, я что-то должен сказать. Не знаю что.
У самых ворот нас догоняет Аня.
– Саша, – говорит она, – ты разве не пойдешь на поминки? Я знаю, папа тебя любил.
Я молчу. Она знает: папа меня в самом деле любил – больше, чем ее. Знает и ревнует даже сегодня.
– Нет, – говорю я, – у меня будут альтернативные поминки.
Разворачиваюсь и ухожу. Аня, вероятно, смотрит мне вслед. Снег кинематографично заметает мои следы.
Сажаю маму в такси, бреду к метро. Может, надо было поехать с ней? Нет, сейчас лучше побыть одному. Наверное, и маме тоже хочется одиночества.
У метро пересчитываю деньги, полученные от Димона. Да, на цветах я немного сэкономил. Все равно их воруют на кладбище, мертвым какая разница?
И вот в ларьке у метро Мореухов берет двухлитровую бутыль очаковского джин-тоника. Пьет большими глотками, горло схватывает судорогой. Проезжает такси – Эльвира с тетей Таней, коллеги дяди Саши, его друзья, статисты, массовка. Никита сидит за рулем «тойоты», отец на переднем сиденье, просит отвезти его домой. Никита молча едет сквозь снег, вспоминает надтреснутый голос в трубке: Ты знаешь, Саша умер – Брат? – Да. И каждый думает о своем брате.
Они молча едут сквозь снег, как будто боясь нарушить тишину, тишину вины и стыда, запоздалое эхо молчания, столько лет разделявшего братьев. Они молчат, а Никита представляет: одинокий Мореухов у ларька справляет альтернативные поминки.
Такси. Эльвира с тетей Таней. То есть Аня с мамой. Наверное, обе плачут. Это нормально: плакать, возвращаясь с похорон. Или нет: они еще не могут заплакать, они говорят о поминках, о продуктах, о покупках. Или нет – они просто молчат.
Машина едет сквозь мокрый московский снег. Таксист слушает песню про Лялю, которую загубили, хотя она была девчонка кроткая. Нету столько водки, чтоб от боли не сойти с ума. Ну-ну.
Вся Москва сейчас слушает хип-хоп – или подделки под хип-хоп.
Да. Продукты, покупки, салаты, дожить до зарплаты, два брата, последняя трата. Вот Аня и Таня, как будто картинки, смотрите – поминки, набились к Татьяне, сидят на диване, на стульях, на досках, вот так, в этом плане, ну, в общем понятно, открутим обратно, давай, заноси!, немного вперед, вот, обратно – в такси.
Аня смотрит в окно, сжимает мамину руку, думает: мама всегда говорила: Твой отец меня никогда не любил. Ну вот, и я его никогда не любила. Да и виделись мы всего раза три-четыре. Лет десять назад сама позвонила из любопытства, встретились, поговорили. А до этого за двадцать лет он меня даже ни разу не навестил. Разве это отец?
А еще говорил: мол, бывшая жена не давала им видеться. Хотел бы – увиделся!
Они молчат. Мокрый снег за окном. Черной земли на папиной могиле, наверное, уже не видно.
Аня берет маму за руку.
– Послушай, я вот хотела тебя спросить…
– Что? – отвечает мама.
В самом деле: что? Аня задерживает дыхание, как бабушка-снайпер перед выстрелом, и наконец спрашивает первое, что приходит в голову:
– А ты сильно любила папу?
Она чувствует: мамина ладонь напрягается в ее руке. Татьяна отворачивается к окну и говорит:
– Да.
Это да ледяным комом проскальзывает в мое горло. Потому что это – главный вопрос и главный ответ. Ты его очень любила? Да. И я его очень любил. И сегодня, 7 февраля 2005 года, стоя в сугробе в пяти шагах от ларька в незнакомой мне части города, где не сыскать живой воды за тридцать, я приделываю второй батл джин-тоника, уже не думаю о том, где возьму деньги на третий, как буду добираться до дома, доберусь ли домой вообще. Снег валит с неба, мой отец умер два дня назад.
Да, говорю я сам себе и бросаю пустую пластиковую бутылку в сугроб, как гранату – под вражеский танк. Наверное, Эльвира с мамой уже доехали до дома, поминки начались. Через два-три часа гости разойдутся, Татьяна наконец-то заплачет, а мне вот не нужно ждать так долго, я плáчу прямо сейчас, стоя под снегом, скрывающим мужские слезы.
Мои поминки будут долгими.
Часть первая
Два брата
(шестидесятые-восьмидесятые)
Только братья знают: любовь и ненависть – сестры.