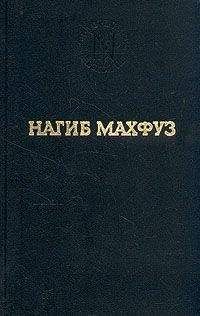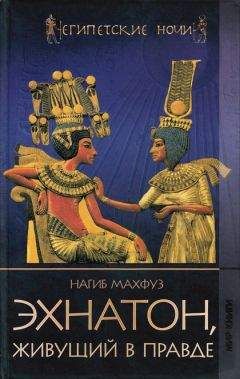Нагиб Махфуз - Дети нашей улицы
Когда Адхам вошел в свою комнату, окна которой были обращены к аль-Мукаттаму, он застал Умайму перед зеркалом со все еще опущенной на лицо белой вуалью. Адхам был опьянен и одурманен до такой степени, что еле стоял на ногах. Он приблизился к ней, сделав огромное усилие, чтобы сдержаться, и снял с нее вуаль: в этот момент ее лицо показалось ему еще прекраснее. Он склонился, чтобы поцеловать ее в полные губы, и сказал заплетающимся языком:
— По сравнению с этим все неприятности — ничто!
Неровным шагом он направился к кровати и свалился поперек, не раздевшись. Умайма смотрела на его отражение в зеркале и улыбалась с сочувствием и нежностью.
5
С Умаймой Адхам обрел счастье, которого никогда не знал, и по простоте душевной делился этим со всеми, пока братья не стали над ним подшучивать. Заканчивая каждую молитву, он простирал руки со словами: «Слава Всевышнему за милость отца, за любовь жены, слава Ему за то положение, которого я удостоился в отличие от многих достойных, за сад-сказку и подругу-свирель, слава Ему!». Все женщины Большого Дома говорили, что Умайма заботливая жена, оберегающая своего мужа как дитя, ласковая со свекровью, угождающая ей во всем ради ее расположения, заботящаяся о доме, как о себе самой. Раньше дела в конторе отнимали у Адхама часть его невинных забав в саду, сейчас же любовь занимала у него весь остаток дня. Он утонул в любви с головой до забытья. Вереницей потекли счастливые дни, и они не кончались, несмотря на насмешки Радвана, Аббаса и Джалиля. Однако постепенно эйфория стала угасать, как потоки водопада, бурля и пенясь вначале, выливаются в спокойную реку. К Адхаму вернулись прежние мысли, время для него стало идти размеренно, и он вновь ощутил смену дня и ночи. Ибо, продолжаясь бесконечно, счастье теряет всякий смысл. Свою старую отдушину — сад — он не должен был забывать. Однако это не означало, что он остыл к Умайме, она по-прежнему была у него в сердце. Чтобы понять логику таких вещей, человек должен прочувствовать их на собственном опыте. Адхам вернулся на любимое место у ручья и окинул взглядом цветы, птиц, выражая им свою признательность и прося у них прощения. Сияющая от счастья Умайма присоединилась к нему. Устраиваясь рядышком, она сказала:
— Я выглянула в окошко, чтобы посмотреть, что тебя задержало. Почему ты не позвал меня с собой?
— Я боялся утомить тебя.
— Ты? Утомить меня? Я всегда любила этот сад. Помнишь, как мы первый раз здесь встретились?
Он вложил ее руку в свою, склонил голову к стволу пальмы и направил взгляд сквозь ветви в небо. Она продолжала доказывать ему свою любовь к этому саду, и чем больше он молчал, тем сильнее она распалялась, потому что ненавидела молчание так же сильно, как любила этот сад. Сначала она рассказала, чем занималась сама, потом перешла к важнейшим событиям в доме, подробнее остановилась на том, что касалось жен Радвана, Аббаса и Джалиля. Затем голос ее изменился, и она с упреком проговорила:
— Ты со мной, Адхам?
Он улыбнулся ей:
— Конечно, душа моя!
— Но ты меня не слушаешь!
Так оно и было. Он не радовался ее приходу, хотя и не тяготился ее присутствием. Если б она решила уйти, он удержал бы ее. Правдой было и то, что он ощущал ее частью себя. Чувствуя вину, он признался:
— Я так люблю этот сад. В моей прежней жизни не было ничего более приятного, чем сидеть тут. Цветущие деревья, журчащие воды и щебечущие птицы так же близки мне, как и я им. Я хочу, чтобы ты разделила эту мою любовь. Ты наблюдала когда-нибудь небо сквозь эти ветви?
Она на секунду подняла глаза вверх, потом посмотрела на него с улыбкой и сказала:
— Действительно, оно прекрасно, достойно того, чтобы стать любовью твоей жизни.
В ее словах слышался скрытый укор, и он поспешил объяснить:
— Так было до того, как я встретил тебя.
— А теперь?
Он сжал ее руку, склонился и сказал:
— Без тебя эта красота несовершенна.
Она посмотрела на него пристальнее:
— Мне повезло, что сад не ревнует, когда ты уходишь от него ко мне.
Адхам рассмеялся, притянул ее к себе, и губы коснулись ее щеки.
— Разве эти цветы не более достойны нашего внимания, чем болтовня жен братьев? — спросил он.
Умайма, посерьезнев, ответила:
— Цветы прекрасны, но женщины не перестают судачить о тебе, о конторе, постоянно говорят о твоих делах, о том, что отец тебе доверяет, и тому подобное.
Адхам нахмурился, забыв о саде, и озабоченно спросил:
— И чего им только не хватает?
— Я, правда, боюсь за тебя.
— Будь проклято это имение! — рассердился Адхам. — Я устал от него, оно настроило всех против меня, лишило покоя. Пропади оно пропадом!
Она приложила палец к его губам:
— Но это же благо, Адхам! Это такое важное дело, которое может принести тебе огромную пользу, о которой ты и не мечтаешь.
— До сих пор это приносило мне лишь неприятности… Начиная с истории с Идрисом.
Она улыбнулась, но в ее улыбке не было радости, а в глазах промелькнула озабоченность.
— Взгляни на наше будущее так же, — сказала она, — как ты смотришь на это небо, деревья и птиц.
С тех пор Умайма всегда сидела рядом с ним в саду, редко при этом сохраняя молчание. Однако Адхам привык к ней, привык слушать ее вполуха или совсем не обращать на нее внимания; иногда брал свирель и наигрывал то, что соответствовало его настроению. Положа руку на сердце, он мог поклясться, что все идет прекрасно. Даже с беспутством Идриса смирились. Но болезнь матери становилась все тяжелее. Она мучилась страшной болью, и сердце его от этого сжималось. Она часто звала его к себе и горячо благословляла. Однажды она стала умолять его: «Молись Господу, чтобы он уберег тебя от зла и наставил на праведный путь». В тот день она долго не отпускала его от себя. То стонала, то звала его, то напоминала свой завет, пока не испустила дух у него на руках. Адхам и Умайма горько заплакали. Пришел аль-Габаляуи, пристально посмотрел в лицо покойной и с уважением накрыл ее тело саваном. Его острые глаза стали печальными и наполнились тоской.
Как только жизнь Адхама начала возвращаться в привычную колею, он столкнулся с ничем не объяснимой переменой в поведении Умаймы. Жена больше не выходила с ним в сад. Ему это не нравилось, хотя раньше было бы наоборот. На его вопрос о причине она отговорилась занятостью и усталостью. Он заметил, что она охладела к нему, а если и позволяла дотронуться до себя, то настоящей страсти с ее стороны он не встречал, как будто она делала ему одолжение, превозмогая себя. Он задавался вопросом: в чем дело? Однако его любовь была настолько сильной, что возобладала над всеми другими чувствами. Он думал, что мог бы быть с ней строже, и иногда ему хотелось вести себя с ней именно так, но бледный и разбитый вид жены, ее чрезмерная уступчивость останавливали его. Порой она казалась расстроенной, порой растерянной, а однажды он неожиданно увидел в ее глазах отвращение, и это одновременно разозлило и напугало его. Про себя он сказал: «Потерплю еще немного, а если она не образумится, пусть убирается на все четыре стороны!»
Едва он сел перед отцом в его покоях, чтобы отчитаться за прошедший месяц, как тот, не слушая, пристально посмотрел на него и спросил:
— Что с тобой?
Адхам поднял голову, удивившись:
— Ничего, отец.
Отец прищурился и пробормотал:
— Есть новости у Умаймы?
Под проницательным взглядом отца он опустил глаза:
— С ней все хорошо, все в порядке.
— Говори правду! Что с тобой? — раздраженно бросил аль-Габаляуи.
Адхам упорно молчал, но, смирившись с тем, что от отца ничего не скроешь, признался:
— Она сильно переменилась, как будто стала чуждаться меня.
Глаза отца загорелись странным блеском.
— Между вами размолвка?
— Совсем нет.
Улыбнувшись, довольный, отец произнес:
— Дурак! Будь с ней помягче. Не дотрагивайся до нее, пока она сама тебя не позовет. Скоро ты станешь отцом!
6
Адхам сидел в конторе, принимая одного за другим новых арендаторов, выстроившихся в очередь, которая растянулась до самого выхода. Когда подошел черед последнего, в спешке и раздраженно, не отрывая головы от тетради, он спросил:
— Имя, уважаемый?
— Идрис аль-Габаляуи, — прозвучал ответ.
Адхам испуганно поднял голову и увидел перед собой брата. Ожидая нападения с его стороны, он вскочил, готовый защищаться. Но Идрис предстал совсем другим: тихий, смиренный, поистрепавшийся, словно намокшая накрахмаленная рубаха. Его не стоило бояться, новый образ его был печальным. Несмотря на то, что вид брата погасил в сердце Адхама старые обиды, он не мог в это окончательно поверить и сказал осторожно, будто вопрошая:
— Идрис?!
Идрис склонил голову и ответил неожиданно мягко: