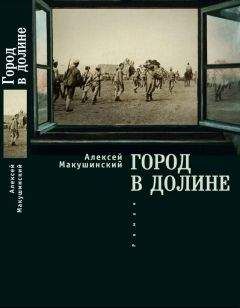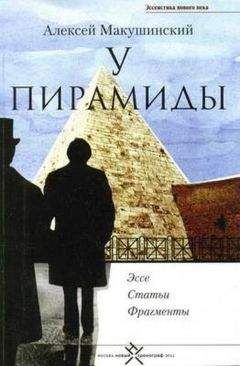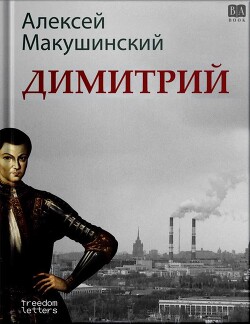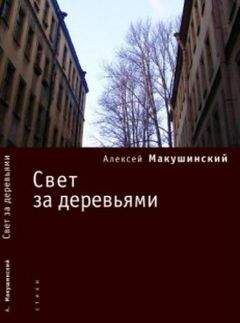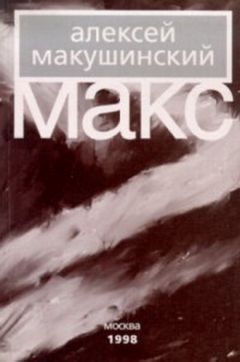Город в долине - Макушинский Алексей Анатольевич
Из Гейдельберга они должны были отправиться обратно на юг, через Карлсруэ и Баден-Баден, через тогда, в 1912 году, германский Эльзас, через Страсбург и фахверковый, как пишет Двигубский, Кольмар, во Францию, прежде всего – в Дижон, где автор не мог, конечно, не подвести их к собору, не вывести их на круглую, за герцогским дворцом, площадь, не посадить их в то кафе, в котором мы с ним когда-то сидели, в котором он не раз сидел в свои дижонские годы один. Кафе этого в 1912 году, возможно, и не было… Через Лион они едут дальше на юг, заезжают в Экс, в Ниццу и Канны, затем в Геную, в Лукку, в Ливорно. Автор то ограничивается простым перечислением, то расцвечивает их путешествие подробностями, дорожными встречами, дорожными разговорами, разговорами (пишет Двигубский в одной из, как мне кажется, относительно ранних рукописей), которых Всеволод вообще не любил, во время которых скучал, зевал и томился – и потому с удивлением (опять с удивлением, растущим, перерастая себя, удивлением…) смотрел всякий раз на Григория, когда тот, разговорившись со случайным попутчиком, с каким-нибудь владельцем виноградников, коротконогим и быстроглазым, возвращавшимся из Парижа домой, с такой легкостью пускался в рассуждения о сравнительных свойствах вин, курортов, устриц или гостиниц, как будто устрицы и гостиницы перемещались, на время разговора, в самый центр его мирозданья; Всеволод, откидываясь на своем сиденье, закуривая толстую папиросу, смотрел на олялякавшего винодела, на Гришу, затем в окно, на проплывавший в нем рыжий Прованс, с далекими, предположим, очертаниями той благословенной горы, которую (пишет Двигубский) всего за несколько лет до их путешествия Сезанн рисовал так настойчиво, как будто стремясь подойти к ней все ближе, приближаясь и приближаясь к ней, вновь и вновь, – смотрел, удивляясь всему этому, и горе, и рыжей равнине, по которой тащился поезд, пыхтел паровоз, и как если бы то удивление, которое он, Всеволод, все острее чувствовал, глядя на Гришу, сообщалось и горе, и равнине, переходило с Григория на гору, даже на винодела… Наш маршрут 2001 года, проделанный в обратном направлении, приводит их, в конце концов, в опустевший, пансионно-курортный, прозрачно-солнечный городишко, в двух, кажется, вариантах, называемый Кастильоне, в остальных, поскольку курортность Кастильоне в 1912 году сомнительна, не называемый никак, но для меня всякий раз узнаваемый, с молом и мысом, крепостью на холме и воздушными очертаниями какого-то далекого гористого острова в притихшем, по-осеннему успокоенном море; городишко, пишет Двигубский в одной из своих рукописей, где прожили они полторы недели, в заброшенном, некогда роскошном отеле, от которого каменная, усаженная кипарисами лестница вела прямо к морю. К морю-то им и хотелось, всегда, по крайней мере – Всеволоду, хотелось, конечно же, к морю. Новалис неправ, говорил он, все дороги ведут не домой, к морю ведут они. Ты так не думаешь, говорил Гриша, обегая долговязого Всеволода, со свойственной ему нескладной неторопливостью спускавшегося по выбитым, еще прохладным в тени ступенькам. Ты сам так не думаешь… Выйдя на пляж, садились они в плетеные, услужливым, наглоглазым, вертлявым гостиничным кельнером тут же при их появлении выносимые кресла; Всеволод, перекидывая длинную, тощую, остроколенную ногу через еще более острое колено другой, закуривая, вспоминая Бодлера (homme libre, toujours tu chériras la mer…), смотрел с не покидавшим его, еще и еще раз, изумлением на Гришу, тут же вновь, бывало, встававшего, подходившего к самой воде, выбиравшего среди прочих какой-нибудь плоский, легкий, но все же не самый легкий камушек и, пару раз подбросив его в руке, посмотрев на него, как будто простившись с ним, пускавшего его отскакивать от чистой глади по-осеннему спокойного моря (calme plat, grand miroir de mon désespoir, думал Всеволод), затем пускавшего следующий, в этом пускании превращавшегося в мальчишку; Григорий, действительно, ни о чем в такие мгновения не думая, но, как это бывало ему свойственно, забывая настоящее и проваливаясь, соответственно, в прошлое, в им, Гришей, как раз не забытое детство, ощущая его всегда в себе, вокруг и повсюду, пускал эти плоские и гладкие камушки, с их щербинками, впадинками, с их как бы отдельным лунным ландшафтом, никакого отношения не имеющим к нам и всей нашей жизни, с таким сосредоточенным и веселым вниманием подпрыгивать по воде, как если бы (думал Всеволод, наблюдая за ним из своего кресла) он сам, Гриша, был ближе к камням, чем к людям, был частью этого лунного каменного ландшафта, персонажем внечеловеческой драмы, как если бы всякая связь пресекалась вдруг между ним и миром, Всеволодом, гостиницей, кельнером, цивилизацией, плетеными креслами или той (пишет Двигубский) французской дамой, с которой познакомились они на другой день по приезде и которая, со своими двумя испуганными детьми и пышногрудой бонной, выходя, если не было ветра, на пляж, располагалась в плетеном кресле, перекладывая то так, то этак принесенные с собою предметы, зонтик, книгу, лорнет. Девочке было лет восемь, мальчику, наверное, семь. Подбежав к воде, замирали они недалеко от Григория, не решаясь к нему приблизиться, не в силах от него оторваться, глядя на него с тем же, казалось Всеволоду, изумлением, с каким он сам, Всеволод, смотрел на него из кресла, стряхивая пепел, вспоминая Бодлера и понемногу втягиваясь в разговор с француженкой, не без кокетства сообщавшей ему, что ее муж, mon pauvre mari, уже скоро два года как оставил сей бренный мир и ее одну, toute seule, в этом мире. Она покрывала пледом колени, смотрела на море, смотрела на свои тонкие руки в браслетах, раскрывала и закрывала книгу, снова принималась устраиваться. Солнце делалось все сильнее, грубые итальянские голоса слышались откуда-то с берега, одинокая чайка шла по самой кромке, отшатываясь от тихо плескавших волн, две длинные лодки беззвучно двигались к острову. Григорий, побросав свои камушки, к не прекращавшемуся удивлению Всеволода, умиленному удивлению француженки, вступал все-таки, приседая на корточки, в разговор с поначалу дичившимися его, с каждым днем все сильней привыкавшими к нему детьми, всегда почему-то испуганными, toujours un peu effrayés, сама не знаю, почему это так, хотя я, казалось бы, все, все, mais tout, для них делаю (говорила француженка Всеволоду), терявшими свой испуг, в конце тех полутора недель, которые они, Всеволод и Григорий, прожили в Кастильоне (или не Кастильоне), уже только к нему и бежавшими, учившимися у него пусканию все тех же, плоских, лунных, холодных, в тугих детских ладонях так быстро согревавшихся камушков, лопотавшими с ним на их общем, уже не французском, никому, кроме них, не понятном, конечно же, языке.
Замечательно, что Всеволода, которому он дал так много от себя самого, Двигубский все-таки не сделал историком. Историком, очевидно, должен был быть их, Григория и Всеволода, отец, в остальном похожий, как мне кажется, на Константина Павловича Двигубского – в той мере, в какой он вообще может быть похож на кого-нибудь, этот смутный образ, так и оставшийся ненаписанным, невоплощенным. То же относится и к матери героя, едва уловимой тенью мелькающей в двух или трех придаточных предложениях; то же, по сути, и к Вере (Лизе?), старшей сестре Григория, младшей Всеволода; и к какому-то безымянному дяде, затерявшемуся в разрозненных рукописях. Только бабушка героя, тоже, надо полагать, списанная с grande-mère автора, обретает, причем, если я правильно понимаю теперь его замысел, далеко не сразу, но лишь в поздних частях повести, уже почти под занавес, живые контуры, осязаемые черты; бабушка – и вот, значит, этот Всеволод, с которым, как мы видели, автор вновь и вновь Григория своего сравнивает, биографию которого он продумывает не менее или, может быть, лишь чуть менее тщательно, чем биографию его младшего брата. Не сделав его историком, он отправляет его изучать – в одной версии историю искусств, в другой романскую филологию, в остальных неизвестно что – сначала в Гейдельберг, затем, через семестр или два семестра, в Сорбонну, где он очень быстро превращается в русского парижанина, каковым на всю жизнь и остается. Всеволод родился в 1889 году, пишет Двигубский (тетрадь № 2); в 1905 году ему шестнадцать лет; он гимназист, сочувствующий, понятное дело, восставшим рабочим, борцам за народное дело, низвергателям самодержавия, героям подполья. В одном из вариантов Двигубский записывает его прямо-таки в Тенишевское училище, по следам двух любимых авторов; тут же, отдадим ему должное, отбрасывает эту вздорную мысль. Между тем сам выбор университетов отсылает все-таки к биографии Мандельштама, спроваженного, как известно, испуганными родителями учиться в Европу от революционного греха подальше. Революционность Всеволода в Европе тоже проходит довольно быстро – что не помешало ему (цитирую по рукописи 2001–2002 годов), когда в Париже объявился вдруг товарищ Сергей, как раз тогда бежавший за границу из очередной ссылки, с ним сблизиться, почти подружиться, пуститься вдруг, слава богу ненадолго, во все парижские тяжкие. Ко времени Гришиного приезда во Фрейбург все это уже в прошлом; тем отвратительнее Всеволоду внезапное появление товарища Сергея и во Фрейбурге тоже, его знакомство с Григорием, вечер, проведенный ими вдвоем в ресторане… В 1914 году Всеволод, как и Григорий, возвращается, конечно, в Россию; слабая грудь, плоскостопие и отцовские связи спасают его от армии. Он осознает себя писателем очень рано; об его сочинениях не узнаем мы, впрочем, почти ничего. По-видимому, соблазн ввести его в круг знаменитых современников, привести его на «Башню», в «Религиозно-философские собрания», познакомить с Мережковским и Гиппиус, с Андреем Белым и Блоком был довольно силен; вновь и вновь, в разных тетрадях, встречаются рассуждения о том, что Всеволод – ровесник Ахматовой, Всеволод мог встречаться с Мандельштамом в «Бродячей собаке» и так далее, в том же духе. Полагаю, что если бы повесть была написана, дело свелось бы к двум или трем коротким предложениям, быстрым упоминаниям, небрежным, или по видимости небрежным, намекам. Важно вот что (замечает он; тетрадь № 2): Всеволод связан с Серебряным веком, Григорий вообще никак; Григорий живет еще как бы в домодернистскую, досимволистскую эпоху… Революция застает Всеволода в Петрограде; «Февраль» вдохновляет его (Григория, на фронте, ни на день, ни на час…); «Октябрь» повергает в отчаяние. Бежать ему удается только в 1919 году, испытав все прелести военного коммунизма, гражданской войны, петлюровского Киева, освобожденной и снова занятой большевиками Одессы; путаные и противоречивые сведения о Гришиной гибели доходят до него уже за границей. Он будет потом всю жизнь о ней думать, пишет Двигубский в одной из своих тетрадей, всю жизнь пытаться представить себе Гришину гибель. Он этого еще не знает, подплывая к Стамбулу… Сам же Двигубский не раз, мне кажется, пытался представить себе это будущее, эту будущую жизнь Всеволода, за гранью действия, за рамками повести, долгую жизнь, которую он дарует ему. Всеволод, в самом деле, мог ведь дожить до 1966 года, как Ахматова, до 1972-го, как Адамович. В 1972 году мне было четырнадцать лет (пишет Двигубский в последней, шестой тетради), я отказывался стричься из ненависти к советской школе; в мае 1972 года, в седьмом классе, как хорошо я помню это, когда заболела химичка, Мороз, вставши у доски, читал Гумилева, оглядываясь на дверь, не зайдет ли кто из… предложение здесь обрывается. Облака в окне, гудение города, тепло, первый шмель, залетающий в класс, тополиный пух, счастье, Мороз живой, никто еще не знает, как все… и это предложение обрывается тоже. Всеволод (на следующей странице пишет П. Д.) мог бы стать героем какой-то совсем другой книги. Книги, которую никогда я, конечно, не напишу.