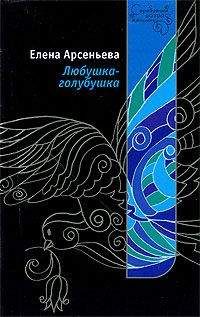Алексей Макушинский - Город в долине
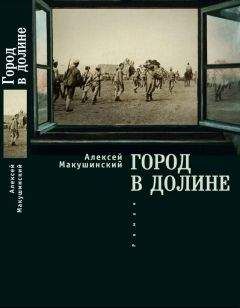
Обзор книги Алексей Макушинский - Город в долине
Алексей Макушинский
Город в долине
Спасибо, что вы выбрали сайт ThankYou.ru для загрузки лицензионного контента. Спасибо, что вы используете наш способ поддержки людей, которые вас вдохновляют. Не забывайте: чем чаще вы нажимаете кнопку «Спасибо», тем больше прекрасных произведений появляется на свет!
ГОРОД В ДОЛИНЕ
Роман
Il n'y a pas un etre humain capable de dire ce qu'il est, avec certitude. Nul ne sait ce qu'il est venu faire en ce monde, à quoi correspondent ses actes, ses sentiments, ses pensées; qui sont ses plus proches parmi tous les hommes, ni quel est son nom véritable, son impérissable Nom dans le registre de la Lumière.
Léon Bloy1
Странное дело, мы так и не перешли с ним на «ты». Мы называли друг друга по фамилии (прямо как Станкевич с Грановским, заметил он как-то, прямо как Герцен с Тургеневым) и упорно, с первой, в мои девятнадцать лет, в его, кажется, двадцать один год, до последней, о которой — когда-нибудь, встречи, обращались на вы друг к другу: вы, Двигубский, вы, Макушинский. Это выканье, в его двадцать один год, в мои девятнадцать, было, конечно, игрою — и, конечно, формой протеста против пролетарского панибратства, со всех сторон окружавшего нас. По фамилии же потому, наверное, называли друг друга, что слышалось — нам обоим, не нам одним, может быть, — некое созвучие в этих фамилиях: обе на — ский, обе довольно редкие; моя, впрочем, тягучий анапест, его — решительный ямб, лишь притворяющийся (как, в свою очередь, сказал я ему однажды, зимней ночью, тридцать лет тому назад) амфибрахием. Ночью, кстати, и познакомились мы, раннезимней ночью, в ноябре 1979 года. Было некое место возле Чистых прудов, называемое чердак — огромная, в несколько путаных помещений, безнадежно-пыльная мастерская одного, как и все они, бородатого, насквозь прокуренного художника, пару лет спустя уехавшего в Израиль — или двух художников? — все двоится теперь, как ни всматриваюсь, — где чуть ли не каждый вечер собиралась большая и разношерстная, полудиссидентская, полусветская — одно в ту пору сливалось с другим — компания, покуда, годом позже, после обыска, произведенного там гэбухой, чердак этот не оказался вдруг запертым на амбарный замок, навсегда. Знакомство же наше произошло вот как. Я стоял, хорошо это помню, на углу возле театра «Современник», ожидая мою тогдашнюю кратковременную, так скажем, подругу, с тех пор тоже затерявшуюся в пространстве (пространстве, по некоторым сведениям, американском), блондинку Женю, как все называли ее, чтобы отличить от какой-то брюнетки Жени, которую уже никак не могу теперь вспомнить; с этой Женей-блондинкой договорились мы встретиться, чтобы вместе пойти на чердак, где я еще не бывал, где бывала она постоянно. В ту пору в моде были брезентовые сумки на длинных лямках, военно-противогазного вида (эпоха разноцветных рюкзаков еще, конечно, не наступила); в сумке же лежало у меня что-то остро-нелегальное, Архипелаг, Авторханов… (я, разумеется, никогда не рискнул бы достать из сумки такое на улице или в метро; шик был в том, что — вот, сидишь в вагоне или едешь по эскалатору, и никто ничего не знает, и мент у турникета глядит на тебя невидящими глазами, а в сумке-то, в сумке-то у тебя…; мне, повторяю, всего девятнадцать лет было в ту мифологическую эпоху). Еще помню, что в моде, впрочем — недолго, были тогда мундштуки, причем дешевые, псевдо-янтарные, за тридцать, что ли, копеек продававшиеся в любом табачном ларьке; сигарету полагалось вставлять в такой мундштук целиком, не отрывая фильтра (заботясь, будто бы, о здоровье…); в узком стволе его образовывалась постепенно черная дрянь, которую извлекали оттуда тонкой проволокой, замотанной в вату; с кретинической сосредоточенностью чистить мундштук на лекции было, конечно, невинной отрадой студента. Вижу себя довольно отчетливо, с этой брезентовой сумкой и тридцати-, тоже, копеечной «Явой», забитой в мундштук, в перешитой на меня отцовской тяжелой дубленке, топочущимся в снегу, глядящим на кружение снежинок под фонарем; еще отчетливее вижу его, появляющимся из прозрачной мглы переулка. На нем было бежевое английское пальто с большими костяными застежками (не пуговицы, но рожки, продевавшиеся в кожаные петли; такие пальто видел я в «Березке» на, кажется, Профсоюзной…), уже, в сущности, не соответствовавшее сезону; длинный, тоже как бы английский, серо-бурый шарф, высоко замотанный вокруг шеи, так что, когда он заговорил со мною, ближайший к подбородку завой заколебался от его слов; и каких-то неправдоподобных размеров, ярко-рыжие, на меху, рукавицы, на которые он, казалось, и возлагал все свои надежды в борьбе с морозом, время от времени с глухим хлопком ударяя в ладоши. «Вы, наверное, Алексей? Меня послала Женя вас встретить». — «А вы?» — «Двигубский, Павел», сказал он, обнажая ямбическую природу своего имени и какие-то преувеличенно-правильные, навязчиво-сияющие зубы в снисходительно-победительной, вызывающе неискренней, а потому и наглой улыбке. — «Идемте, холодно». Все это очень не понравилось мне, но я, конечно, пошел.
2
Он был выше меня ростом (а я к этому относился тогда ревниво). Был высок, худ и нескладен. Шагая махал руками — и взад-вперед, и вкривь-вкось, как если бы они плохо были привинчены к узким его плечам, да и в локтях, похоже, с шарнирами не все у него заладилось. Был при всем том откровенно, даже как-то (решил я) неприлично красив; носил в то время роскошную, чуть-чуть вьющуюся, темно-русую, рудинскую, как мы потом прозвали ее, шевелюру, в ту зимнюю ночь не прикрытую шапкой и великолепно контрастировавшую с его очень черными, густыми бровями. Эти брови, до самого конца не утратившие своей красоты и полета, были как бы особым его клеймом, личным знаком, внятным и памятным всякому, кто хоть раз внимательно на него посмотрел; у переносицы сросшиеся, на пути к вискам набиравшие силу и густоту, затем утончавшиеся, но отнюдь не редевшие, как будто проведенные уверенным карандашом, ярко-черные по-прежнему, внезапно, у висков, обрывавшиеся, они образовывали одну их тех совершенных линий, какие встречаем мы в природе нечеловеческой, о человеке не думающей, не знающей, в изгибе случайной ветки под фонарем, зимней ночью, в ласточкиных росчерках на грозовом закате, под эль-грековским небом, во взмахе крыльев кружащейся над заливом, над дюнами и над берегом чайки — за которой мы следим точно так же, как я следил в тот вечер, в ту ночь за взмахами этих бровей, вновь и вновь взлетавших над его какими-то, показалось мне, дымчатыми, дымчато-карими, и тоже чуть вытянутыми, как на египетских фресках, глазами. Мы свернули сначала в одну арку, затем в другую, затем еще в какую-то третью, прошли сквозь затхлый подъезд с полуломаными и ржавыми почтовыми ящиками, поднялись, на дергающемся лифте, на последний этаж и затем на чердак по загибавшейся за лифтовую шахту лестнице — и долго шли потом по этому чердаку, едва освещенному одной-единственной, уже далеко позади, у самого входа, оставшейся лампочкой, по длинным, очень скрипучим доскам, переброшенным, как гать через болото, через гулкую его темноту, покуда не добрались, наконец, до обитаемой части этого чердака, отделенной от внешнего враждебного мира классической советской дверью, с клочьями грязной ваты, выбивавшейся из-под рыжей обивки; за дверью был свет, голоса, табачный дым, треньк гитары.
3
Фамилия же Двигубский, по невежеству моему, ничего мне в ту пору не говорила — но все же смутно напомнила что-то; через сколько-то дней после знакомства с П. Д., ведомый этими смутными воспоминаниями, я отыскал на полке, между собранием сочинений Мережковского и четырехтомным Алексеем Константиновичем Толстым, тонюсенькую, очень пожелтевшую, очень ветхую книжечку, в мягкой, с разводами и кружками, бумажной, наивно подражающей коже какого-то неведомого зверя, обложке, с детства мне знакомую и до сих пор у меня сохранившуюся, вот она, озаглавленную: «Таинственное предсказание, или Карточный Солитер». Под заглавием — виньетка, изображающая полуобнаженную, мощнорукую арфистку, парящую в облаках, с развевающимися, как ткань, волосами и такой же тканью развевающегося, но в другую сторону, так что не совсем понятно, откуда дует ветер, хитона; под виньеткой — выходные данные: «Москва. В университетской Типографии. 1833». На оборотной стороне титульного листа значится: «Печатать позволяется. Москва, Января 7-го дня 1833 года. Ценсор, Заслуженный Профессор, Статский Советник и Кавалер Иван Двигубский». 7 января 1833 года барон Е. Ф. Розен сообщал С. П. Шевыреву о Пушкине: «Он решительно ничего не пишет, осведомляясь только о том, что пишут другие». Откуда была у нас дома эта книжка, я не знал и не знаю; я, конечно, взял ее с собою, когда в следующий раз отправился с уже упомянутой Женей «на чердак», где П. Д. поначалу не было; а кто, собственно, был? Было несколько художников и художниц, молодых и совсем молодых, появлявшихся там постоянно, иногда рисовавших что-нибудь вместе с хозяином (может быть — учившихся у него? я не знаю опять-таки, знаю только, что нового человека усаживали рано или поздно в трухлявое, валкое кресло и рисовали его с разных сторон; усадили в конце концов и меня, с томом Томаса Манна, вот это я почему-то запомнил, в руках; усаживали, наверное, и Двигубского; где теперь эти рисунки?); были, как они всегда и везде бывают, просто девушки, без дальнейших свойств и характеристик; была умопомрачительная особа по кличке Люда-холера, сквозь приступы кашля и брызги мокроты сообщавшая всем встречным и поперечным, что она вчера весь вечер блевала, всю квартиру, бля, заблевала, а сегодня у нее началась менструация, так что вы к ней лучше не подходите; была, наоборот, тонюсенькая, вся изломанная и манерная девушка, прозывавшаяся Спичкой, всякий раз, когда кто-нибудь заговаривал с ней, смотревшая на непрошенного собеседника с удивленным упреком, как не стыдно, мол, приставать ко мне с пустяками, затем впадавшая вдруг в истерическую веселость, затем опять умолкавшая, как будто все прислушиваясь к чему-то; была православная фракция, любившая, понятное дело, поговорить о таинстве причастия, о поездке в какую-то пустыньку, об отце Александре Мене; были дети диссидентов, опаленные героическим пламенем; был сын знаменитого дирижера, мрачный малый, налегавший, в основном, на коньяк, неизменно приносимый им с собою в армейской фляжке с красной звездой на крышке, изредка угощавший им кого-нибудь из своей свиты; были фарцовщики, непонятно как и зачем оказавшиеся здесь; был добрейший, толстейший, уже, по нашим тогдашним понятиям, немолодой, то есть, entendons-nous, тридцатилетний, трогательно местечкового вида и облика, с рыжей бородищей, врач Лёня, тоже непонятно как здесь оказавшийся, впоследствии, и еще много лет спустя, и наверное до сих пор помогавший и помогающий всем своим друзьям, знакомым, полузнакомым в их разнообразных невзгодах, болезнях и трудностях. Книжка, мной принесенная, имела, конечно, успех; передавая ее из рук в рук, читали мы, например, что гадать надо так: «Возьмите из колоды карт — 32 карты, то есть от туза до семерки, каждой масти, перемешайте хорошенько, задумайте, и выдерните три раза по одной карте, потом смотрите каждой значение». Значение вот, к примеру, такое: «СЕМЕРКА ЧЕРВОННАЯ. Прелестная девушка белокурая с голубыми глазами, пылкого ума, окажет вам величайшую услугу, не предуведомя вас о том. Она чрез вас познакомится с одним черноволосым, за которого потом выйдет замуж, и в двух этих молодых супругах вы найдете для себя лучших друзей, никого кроме их посещать не будете; можно сказать, что в кругу этих друзей вы обретете все наслаждения безмятежной старости». Или: «ДАМА БУБНОВАЯ. Сия карта предупреждает вас быть осторожным: одна женщина, сплетница, болтунья и притом очень любопытная, поссорит вас с людьми, которых вы наиболее уважаете; но возбужденное ею о вас невыгодное мнение опровергнет хорошее ваше поведение и отмстит клевете, за которую останется ей презрение, а вам уважение. Где властвует злоречие и первенствуют интриги, там надобно избегать мести! и если вы не последуете сему совету, то совершенно потеряетесь. Все дурное, что сделает вам сия злая женщина, послужит уроком впредь быть осторожнее». Как ни стараюсь теперь найти здесь предзнаменование, знак и отзвук моей ли собственной, Двигубского ли судьбы, не нахожу, разумеется, ничего, ни знака, ни отзвука. Между тем, он появился; каково быть потомком цензора, спросил его кто-то. Брови его взлетели; улыбнувшись, на сей раз, какой-то тихой, как бы внутрь обращенной улыбкой, ответил он, что Иван Алексеевич Двигубский, а это именно он, кто же еще? был цензором лишь, как теперь сказали бы, по совместительству, а был, вообще, человек замечательный, ученый-ботаник, ректор, между прочим, Московского университета, автор первого описания всей подмосковной флоры и фауны. Он, Павел Двигубский, уже давно собирает сведения о нем; в «Русском биографическом словаре» Половцова, том шестой, страница не помню какая, есть о нем большая статья, где приводятся, в частности, названия многочисленных его трудов, среди коих, то есть именно названий, есть замечательные, он, Павел, помнит некоторые из них наизусть, как, например, «Краткое описание всех животных четвероногих и китов, которые водятся в пределах российского государства, с показанием мест, где именно они водятся», 1816 года, или, не менее, согласитесь, прекрасное, «Изображение растений, преимущественно российских, употребляемых в лекарства и таких, которые наружным видом с ними сходны и часто за них принимаются, но лекарственных сил не имеют», в трех, между прочим, частях, издававшихся с 1821 по 1831 год. Все это он проговорил медленно, тихо и с расстановкой, явно наслаждаясь и самими названиями, и произведенным эффектом. Нет, он вовсе не потомок профессора Ивана Двигубского, увы; впрочем, если верить семейным преданиям, он все же находится с ним в отдаленном, для него, Павла Двигубского, бесконечно отрадном и почетном родстве. Цензорами же в российском государстве были, как известно, многие достойнейшие люди, четвероногие и киты, как, например, Александр Васильевич Никитенко, автор знаменитого дневника, каковое цензорство не помешало Некрасову и Панаеву пригласить его в соредакторы «Современника»; цензором, по возвращении из Мюнхена, был, между прочем, и Тютчев, даже старшим цензором, если память не изменяет ему, отвечавшим, впрочем, только за иностранную литературу, пропускаемую или не пропускаемую в российское государство министерством иностранных дел, где и служил он; цензором, наконец, уже в более либеральные пореформенные времена, был, кстати, и Гончаров, причем он, Двигубский, отнюдь не уверен, что эта служебная деятельность великого романиста, так он выразился, уже явно играя и переигрывая, начавшаяся в 1856 году, когда реформы еще только намечались на горизонте нашей общественной жизни, имеет к ним, реформам, сколько-нибудь значительное отношение, то есть, по его, Двигубского, убеждению, он, Иван Александрович, видел в своей цензурной деятельности, как и все они, просто службу и без всякого сомнения поступил бы в оную, даже если бы никаких реформ на горизонте и не наметилось, хотя, с другой стороны, нельзя отрицать, что именно благодаря Гончарову были опубликованы. Он, кажется, собирается прочесть нам лекцию, заметил кто-то. Историк, бля, с отвращением проговорила Люда-холера. У историка были длинные гибкие пальцы музыканта, хотя, как я вскорости выяснил, ни на каком музыкальном инструменте он не играл; перелистывая принесенную мною книжку, прочитал он своим низким, с хрипотцой, голосом: «ДЕВЯТКА БУБНОВАЯ. Дела ваши хотя идут медленно, но от сего не может быть расстройства в успехе. В уме вашем составлен план, отменно выгодный вашей будущей пользе; — хотя завистники и могут испортить его, но деятельность ваша все превозможет, и вы достигнете до цели, предпринятой вами — к удивлению всех вас знающих, и посторонних лиц — не оставляйте счастливой вашей мысли, и ни под каким видом не слушайте тех, которые пожелают отвратить вас от оной — помните, что от исполнения зависит счастие всей будущности вашей, и будьте тверды».