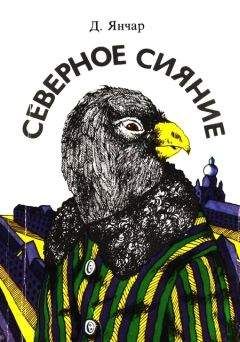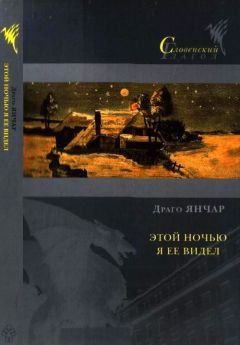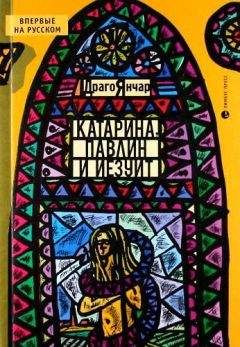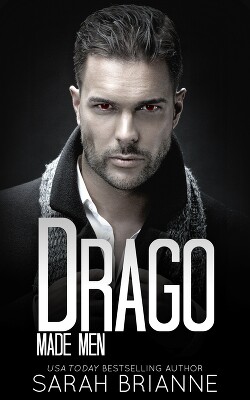Насмешливое вожделение - Янчар Драго
Как только он присел, кто-то предложил ему закурить. Черноволосый южанин молча протянул ему сигарету. Благодаря этому радушному и естественному жесту, на которое способны только выходцы с юга, те, кто ничего не требуют взамен, ибо главное воздаяние — это взаимное понимание мира, взаимопонимание, благодаря этому естественному жесту, последовавшему за тем, как он захлопал по своим пустым карманам, он вдруг… вдруг оказался сидящим совсем в другом месте. На скамейке какой-то сельской железнодорожной станции на юге Сербии. Черный деревянный пол, зал ожидания полон крестьянок с корзинами, мужчины пускают в потолок клубы дыма. Позади у него бессонная ночь, два раза по два часа в карауле. И Анна приезжает.
Он вышагивал вокруг караульного помещения с заряженной винтовкой на плече. Сапоги равномерно чавкали по грязи, в ночи раздавался гам разудалой цыганской свадьбы. Она больше не была разудалой: песни под звездным небом уходящей ночи становились все более печальными, страдальческими, чувственными. Здесь время двигалось по-другому, с ветром. Цыгане пели сербские песни, восточная чувственность и славянская печаль, ах, славянская душа. Ветер доносил звуки труб, барабанов, чуть позже гармоники и скрипки. Когда по небу уже начал разливаться утренний свет, а звезды — меркнуть, гости запели сербскую песню, слова которой он отчетливо различал между порывами легкого ветра. Парень просит девушку открыть ему дверь. Открой мне дверь, лилейная Ленка, чтобы я тебя увидел, лилейная Ленка, уста твои. Кожа у нее лилейная, а губы алые, пусть она откроет ему дверь, тогда он их поцелует. И вдруг он почувствовал, что лилейно-белая кожа Анны, ее алые губы где-то рядом, что они повсюду, они там, в вышине, среди меркнущих звезд, в утреннем августовском рассвете, который отражается в окнах спящей казармы; что теплое поле, размокшее от дождя, пряная трава несут запах этой кожи. Как в лихорадке, он ждал той минуты, когда придет смена. А потом были еще два часа в казарме, среди спящих тел товарищей, с сигаретой, взглядом, упертым в низкий потолок, со звуками цыганской музыки и с Анной, сидящей в купе поезда, едущего на юг из далекого, за тысячу километров отсюда расположенного города, который сейчас, когда бегущий пейзаж умиротворенно и неопровержимо наполняет это великое утро, остался далеко позади.
Он ждал этого утра восемь месяцев, месяц боролся за увольнительную, молниеносно выполнял любую команду, всю ночь печатал для командира какие-то приказы, носился по грязи, был первым на утреннем построении, пока, наконец, не дождался командирской улыбки, улыбки с золотым зубом, и подписи, сделанной рукой с перстнем. Величественная подпись, обещавшая три дня свободы. После того, как утром они сдали патроны и нажали на курки направленных в воздух разряженных винтовок, у него осталось еще два часа до прибытия поезда. Умывался и брился он холодной водой, царапая кожу. Хотел избавиться от запаха казармы, солдатской формы, всего хоть отдаленно армейского. Весело получил несколько сальных наставлений от часовых новой смены и попрощался, как будто навсегда покидал эти мужские спальни, сырые коридоры, разящие дерьмом и лизолом уборные, пропахшие кофе, коньяком и сигаретами офицерские кабинеты, воняющую луком столовую, бывшую когда-то конюшней, пахнущие оружейной смазкой винтовки и штыки. Ясным утром он шел по маленькому южному городку мимо низких покосившихся домов, потом через цыганский квартал, где плясали пьяные гости, пришедшие на свадьбу, резали ягненка и спускали его кровь в сточную канаву… Поезд опаздывал. Реальные поезда, те, которые обязательно должны прибывать, всегда задерживаются. Он сидел в зале ожидания, пол которого был черен. Черноволосый мужик рядом предложил ему сигарету. От мужика пахло утренней свежестью, полем и овцами. Со стены на него смотрел румяный товарищ Тито. Любящий взгляд великого вождя, который сопровождал Грегора Градника всю жизнь, с самых детских лет: румяные щеки, длинный мундштук с сигаретой, массивные перстни, сверкающие ордена на белом мундире. Он с благодарностью смотрел на родное лицо своего Верховного главнокомандующего, который, посредством своего лейтенанта, дал ему три дня увольнительной.
А потом на станции со скрежетом остановился забавный пригородный поезд. Анна. Наконец-то, наконец-то, выдохнула она ему в ухо. Ну, пойдем, ты и я, по каким-то почти безлюдным улицам, вымощенным опилками. В пустой ароматной пекарне они ели бурек, оба не спавшие, оба в странном, утреннем полуобмороке. В экстазе путешествия, в экстазе ожидания. Пошли прямо в гостиничный номер, полы в котором разваливались, из потолка над ними торчали деревянные балки. Из крана капало, кровать курьезно скрипела. Но это был самый прекрасный и самый незабываемый гостиничный номер в жизни Грегора Градника. Кожа Анны была не белой, а загорелой. Она привезла с моря запах соли и сухого ветра, из родных горных мест какую-то хрустальную напряженность воздуха, ее губы алели, как в той цыганской утренней песне на рассвете. Они любили друг друга рядом с грубой солдатской униформой и шелковыми тканями, в ароматах парфюмерной фирмы «Эсте Лаудер» и запахах оружейной смазки и кожи, в благоухании ее кожи и в резком сернистом духе армейского мыла, любили порывисто и жадно, нежно и долго, и многократно, и — до крови. В какой-то момент, когда она резко взвилась над ним, а потом опустила голову, из ее носа хлынула кровь. Это воздержание, сказала она, восемь месяцев воздержания. Любимая, я тебя вскрыл, по моим рукам пролилась алая кровь. Как освобождение, как развязка, как знак, кровь совместного одновременного истощения сил в расслабленных членах.
Три дня свободы. Они плавали в бурой реке, лежали в августовской траве и слушали дальние барабаны все еще продолжающейся свадьбы. Сидели в тихой церкви и слушали таинственное, тысячелетней выдержки баритональное пение бородатого православного священника. Запах собора, воскресных свечей, бесстрастных вечерних молитвенниц. Под круглым куполом порхала птица. Она залетела под свод церкви и не могла найти выхода.
В огромном зале аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке раздался резкий звук громкоговорителей. Тараторящий женский голос что-то неразборчиво вещал, это что-то, как птица, попавшая в помещение, летало под куполом, это что-то явилось из внешнего мира, оттуда, где летают самолеты. И неразличимая масса оказавшихся в ловушке слов и звуков билась о стены и потолок огромного закрытого пространства, порхала и оповещала.
Он подошел к табло. Задерживающийся самолет прибыл, надпись уверенно ползла по нижней части экрана.
Она не прилетела. Окончательно и бесповоротно. К этому он готов не был. Пернатое объявление о прибытии бесполезного, по-идиотски бесполезного самолета все еще порхало по залу. Люди в обнимку быстро шли к выходу. Зал мгновенно опустел и тут же начал заполняться следующей партией ожидающих. Ее отсутствие было необъяснимо. Он побежал к стюардессе и попросил просмотреть список пассажиров. В списке ее не было, в самолете не было, в зале аэропорта не было, в Нью-Йорке не было, в Америке не было, нигде не было.
Опустошенный внезапной неизвестностью, измотанный бессонной ночью, он дотащился до «Уитби». Старики сидели у привратницкой и яростно спорили о только что закончившейся забастовке мусорщиков. Уже в коридоре он услышал мяуканье, похожее на стоны. Он забыл их покормить. Открыл банку здоровой и вонючей кошачьей еды, налил молока и начал набирать телефонные номера. На другой стороне океана раздался звонок в пустоту. Есть не хотелось, спать тоже. Он смотрел, как кошки жадно заглатывали куски рубленого мяса. Раздался резкий звонок. Он поднял трубку, но она молчала. Звонок был в дверь. Одна из кошек прибежала в прихожую, он отшвырнул ее ногой, так что животное с визгом отлетело назад к своей миске. Этот кот был кастрирован, он зашипел и замяукал.