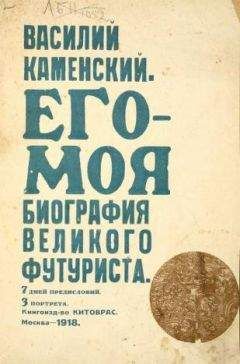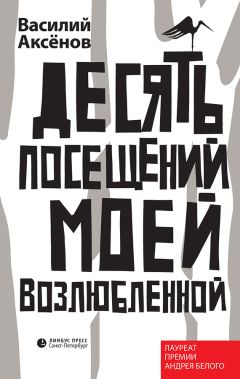Василий Аксенов - Вольтерьянцы и вольтерьянки
Пролив, за которым свинело Свиное Мундо, был неширок, но быстр. Оба судна трудно боролись с течениями. Иной раз сближались на расстояние пистольного шУта. Израненные гады слабо трепетали при виде двух неуязвимых уношей. Николя, пристально прицелившись, сразил рулевого. Казак Эмиль вздымал длани к летящим тучам, как будто моля Того, кого с упорствием обижал в жизни. Лодью и галеру снова разнесло в удаленность. Тот, кого башибузук призывал, должно быть, помог из-под днища.
Так, в бореньях, две лодьи, большая и малая, достигли сумеречной поры и чуть было не потеряли из виду друг друга, когда вдруг выплыл из размазанных красок песчаный брег Померании.
Банда приткнулась первая и тут же расползлась по кустам прибрежного можжевельника. Датчанин смастырил для своих ездоков два смоляных факела, чтоб настигать сволочей по следам. Уноши ухнули с борта на песок и помчались, клинки наготове — Колька налево, Мишка направо. Из темноты кто-то пустил в них ножом; промазал. Ровно гудели над головами сосны, должно быть мечтая о корабельном будущем. Над ними светилась в прозрачном, как бутылочное стекло, небе большая и выспренная звезда всего российского уношества — вперед, вперед!
В этот как раз восторженный почти до крика момент кто-то хватил Михаила чем-то чудовищным поперек головы.
***
Очнулся он в густой не июльской ночи. Пахло пожарищем. Где-то на склоне, почти отвесном, в бликах огня торчали пики какой-то орды, вспыхивала и увядала пасть костра. По всей округе шел посвист с воем; то ли волки кружат, то ли азиатские стаи людей. Небо по временам озарялось своим електричеством, сиречь зарницею. Тогда возникали безбрежные висты-обзоры, ничуть не похожие на Европу. Тут же все гасло, и вновь воцарялась густая черная мразь, в коей убивают без разбору.
Михайло встал, отчасти уже понимая, что он тут вовсе не Михайло. Протянул в сторону руку, в нее легли мягкие губы коня. Зверь был знакомого боевого складу, но не Тпру; седую гриву ему, видать, в жизни не подстригали, она светилась в ночи. Прыгнул в седло, оно оказалось толь жестким, что прищемилось яисо. Поплыли во мраке, как будто выбирая склон для разгона. Доносились взвизги резни, без коих в том летописьи не мог жить кочевой человек. Одиночество богатырское ожесточало сердце. Не нежная песня напрашивалась на уста.
Эй, Чурило Пленк’ович, расейский ерой,
Скачет ночью, не видноть ни зги!
А поганое идло выжжит под горой
Вместе с падлой блажной мелюзги.
Где мой град, где мой трон, где заветный сундук,
Где мой пруд, полон сладких лящей?
Каковую припас мне злодейку-судьбу
Обожравшийся мясом Кащей?
Дай огня мне, сестра! Дай стрелу мне, любовь!
Конь— поскок, над бядой проскочи!
Блажь идет пять веков, сшибка бешеных лбов.
Разлетайтесь, блажные сычи!
Сколько времени так скакал, было непонятно. Летописные галлюцинации то отступали, то возвращались. Конь тоже время от времени уходил из-под ног; тогда волочился на своих двоих, с некоторой отчетливостью воспринимая современный Шлезвиг-Гольштейн, где вовсю полыхает Вторая вольтеровская война.
Так вроде и было на самом деле. Где-то в каком-то кабаке кто-то не совсем тверезый рассказал ему притчу этой войны. Еще не отшумела первая ойна имени знаменитого филозофа, как началась торая. Как сегда всякая кабацкая шваль катила очки на великого сына прусской земли, ридриха торого. Якобы его тайная лужба наняла анду в Данциге и послала в Свиное Мундо для захвата Вольтера, который, оказывается, заперся в каком амке на строве и продавал там европейские секреты российским ыщикам. Вольтер-колдун в стачке с черной магии магистром Сракаградусом нагнал на отряд порчу, да так, что от всего ойска остался один только беглый душегуб с Дона, Барба, рваная оздря. Владетель сиих мест урфюрст Магнус вторгся в Пруссию вместе с польским ойском, требуя выдачи ушкуйника. Пруссия же объявила Барбу Россу борцом за свободу и потребовала ачинщика Вольтера в Гаагский суд. Сразу пыхнула Саксония и срединные пфальцы. Вольтер призвал всех крестьян Европы сбросить иго монастырей. Крестьяне встали на защиту любимого уховенства. Те, что еще остались от Первой вольтеровской войны, бились на оба конца. Тут кто-то втер, что одним из фельдкомандирен оной ойны пребывает некий казус с двумя носами, вроде быть не кто, как беглый русский царь Петр Дер Драй. Во всяком случбе, Россия подошла с эскадрой в тысящу пушек, то есть протянула Копенгагену уку ужбы. Франция и Голландия после кровавого боя разделили в Карибском море стров Сент-Мартен. А ты, беглый олдат, отсюда не выйдешь, покуда не подпишешь онтракт на службу усскому крлю!
Миша дрался то ли весь день, то ли весь год, пока пробивался к морю. Положил множество народу и сам получил сильный удар в ухо с рикошетом по всем ребрам. В конце концов отбился и выполз, роняя тяжелые сгустки крови, на песчаный какой-то брег. Сидел, опустив утомленные ноги, в накат волны. Занимался то ли закат, то ли рассвет. Вода была нечиста. Накат подгонял к нему много размокшей бумаги, толщиной в палец, некие странные пленки с печатью «оссисо де Страсбу», мятые (не разбитые!) какие-то бутыли, невесомые белые камешки и ломаные кирпичики, явилась широкая то ли рыба, то ли квасная тюря, заляпанная дегтем, плюхнулась на песок, взялась задыхаться, подплыли и распластались там же оранжевые штаны, неизвестно с чьей великанской жопы, в складках оных портов тут же скопился мелкий мусор, в коем опять же плескались загадочные пленки, неизвестно из какой сделанные тончайшей до прозрачности кишки, мелкие белые ложечки, разная протчая дрянь, кою никак не назовешь и не опознаешь.
Ужас продрал Мишеля Террано с ног до головы. СтрашнО, же круа, выпадать в мир не-бЫтия. Обеими ладонями он зачерпнул этой жижи и пролил себе на макушку. Все наваждение исчезло в один миг, вода очистилась, и покатили мирные волны с простыми узнаваемыми пузырями. Ветер ласкал его грудь сквозь порванные мундир и рубаху. Завершался бесконечный день. Догорал закат. Чьи-то тяжкие шаги волоклись к нему по песку. Он глянул: подходил брат его Николя де Буало, тоже в растерзанном виде. Увидев Мишу, бухнулся коленами в воду, воздел длани к Спасителю, возопил:
«Господи милостивый, единый во всех Своих ликах! Благодарю Тебя за то, что сохранил мне возлюбенного брата Мишу! Амен!»
Силуэтом на горелом небе подплывала все та же утренняя датская лодья.
Ночь уже была в полном праве, когда воители верхами на верных конях вернулись в замок. Там завершался «Ужин искусств», как обозначен он был генералом в программе. Тихо виолами слух услаждали печальные сестры. После Вольтер, словно уноша, стих зачитал, жестами и взором к далекому адресату, кою уподобил он Пчеле Благодетельной, пылая и воспаряя.